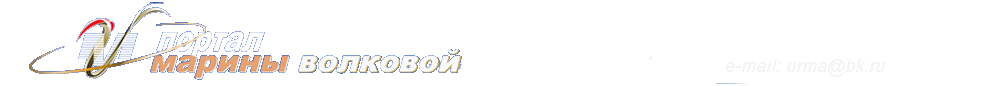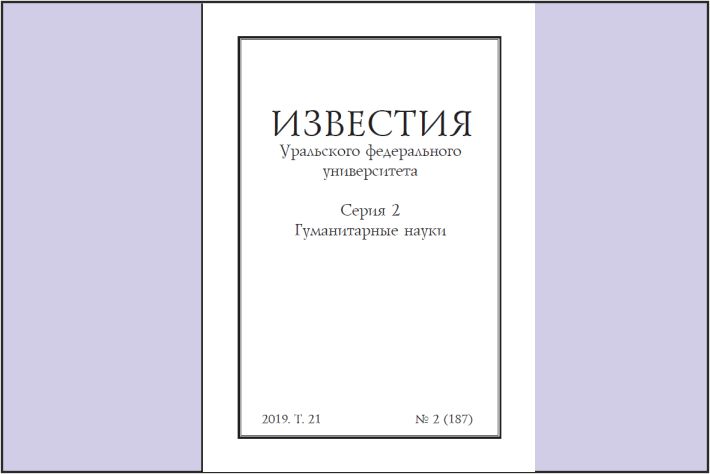
DOI 10.15826/izv2.2019.21.2.034 УДК
Т. И. Подкорытова
Омск, Россия
Поэтологические интроспекции современного поэта (по лирике Юлии Кокошко)
Материалом для статьи послужили две недавно вышедшие книги Юлии Кокошко, поэта из Екатеринбурга — «Под мостом и над мостом» (2016) и «Сумерки. Милый молочник» (2018). Книги интересны тем, что в них преобладающее место занимает поэтологическая проблематика, предметом авторского внимания является, главным образом, феномен творческого сознания в его новейшем варианте. Юлия Кокошко обладает незаурядным даром поэтологического видения, производя интроспекцию собственного поэтического опыта, она одновременно дает общий диагноз состояния современной поэзии в ее соотношении с прошлой традицией. Голос автора в ее лирике, заявляющий о себе в обеих формах первого лица — «я» и «мы», свидетельствует от имени совокупного «современного поэта», ищущего свой путь в хаосе безвременья. Предпринятый синтез современных поэтических интенций мастерски реализован у Кокошко непосредственно в самом стиле, феномен «современного поэта» репрезентируется через его стилевой образ. В статье рассматривается, как осуществляется семантизация стиля на разных уровнях выразительных средств: в специфике синтаксиса, нацеленного на создание грамматического беспорядка, в котором отсутствует «фундаментальная» связующая мысль, все свалено в кучу, как на столе завершенного пира; в стихии словоупотребления, доходящей в своем диапазоне до крайних контрастов — от ученой терминологии до арготизмов; в приемах пародирования метафорического словаря традиции. Все эти средства призваны воссоздать ситуацию языкового Содома, в котором смешиваются без различения языковые полярности — письмо и разговор, высокая поэзия и балаган. В условиях перевернутого мира главной целью поэзии становится выживание, и наиболее актуальным, с точки зрения поэта, является гамлетовский вариант сопротивления времени: культуротворческая функция слова традиционного поэта уступает место разрушительной иронии трикстера — поэта-арлекина, сознающего, что пришло «время разбрасывать камни».
К л ю ч е в ы е с л о в а: поэтология; современный поэт; семантика стиля; языковой хаос; пародийность; перевернутый мир традиции; гамлетовский комплекс; поэт-трикстер.
Ц и т и р о в а н и е: Подкорытова Т. И. Поэтологические интроспекции современного поэта (по лирике Юлии Кокошко) // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 2 (187). С. 181–194.
Поступила в редакцию 13.02.2019 Принята к печати 18.04.2019
© Подкорытова Т. И., 2019
Tatiana I. Podkorytova
Omsk, Russia
THE POETOLOGICAL INTROSPECTION OF THE MODERN POET (with Reference to the Lyrical Poetry of Yulia Kokoshko)
This article considers two recently published books by Yulia Kokoshko, a poet from Yekaterinburg, Under the Bridge and over the Bridge (2016) and Dusk. Sweet Milkman (2018). The books are interesting because they are dominated by poetological issues and the author mainly focuses on the phenomenon of creative consciousness in its newest version. Yulia Kokoshko has an outstanding gift of poetological vision, making introspection of her own poetic experience; together with that, she provides a general diagnosis of the state of modern poetry in its relation to the past tradition. The author’s voice in her lyrical poetry, asserting itself in both first-person forms — “I” and “we”, testifies on behalf of the cumulative “modern poet”, who is looking for their way in the chaos of hard times. The attempted synthesis of modern poetic intentions is masterfully realised by Kokoshko directly in the style itself, the phenomenon of the “modern poet” is represented through its stylistic image. The article discusses how style semantisa-tion is carried out at different levels of expressive means: in the peculiarities of syntax aimed at creating grammatical disorder, in which there is no “fundamental” connecting thought, everything is piled up, like on a table after a feast; in the chaos of word usage, reaching extreme contrasts in its range from scholarly terminology to slang expressions; in the methods of parodying the metaphorical dictionary of tradition. All these tools are designed to recreate the situation of linguistic Sodom, in which there is no hierarchy, where linguistic extremes are mixed without distinction — writing and speaking, high poetry and farce. In the conditions of an inverted world, survival becomes the main goal of poetry in such conditions, and the most relevant, from the point of view of the poet, is the Hamlet version of the resistance of time: the cultural function of the traditional poet’s word gives way to the destructive irony of a trickster, a harlequin poet, who is aware that the “time to throw stones” has come.
K e y w o r d s: poetology; modern poet; style semantics; language chaos; parody; inverted world of tradition; Hamlet complex; poet trickster.
C i t a t i o n: Podkorytova, T. I. (2019). Poetologicheskie introspektsii sovremennogo poeta (po lirike Iulii Kokoshko) [The Poetological Introspection of the Modern Poet (with Reference to the Lyrical Poetry of Yulia Kokoshko)]. Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21, 2 (187), 181–194.
Submitted on 13 February, 2019 Accepted on 18 April, 2019
Юлия Кокошко хорошо известна в литературных кругах как автор изысканной прозы, получившей высокую оценку в критике и отмеченной премией Андрея Белого (1997). В энциклопедическом словаре «Екатеринбург литературный» она так и представлена — прозаик и сценарист [см.: Екатеринбург литературный, с. 158]. Однако с самого начала в критике сложилось мнение, что создатель этой прозы — в сущности поэт, чьи тексты напоминают о таком прецеденте, как проза Пастернака, Мандельштама или Саши Соколова. Прямым подтверждением этого мнения стали две последние книги Кокошко — «Под мостом и над мостом» и «Сумерки, милый молочник» [Кокошко, 2016; 2018], где произведен плавный перевод прозы в поэзию.
Тесно связанная со своими истоками, поэзия Юлии Кокошко унаследовала характерную для прозы стилевую стратегию, порождающую эффект герметически закрытой системы, чуть ли не солипсической «речи в себе» [Подлубнова, с. 114]. Впечатление герметичной недоступности стиля спровоцировано, как нам думается, особым складом авторского поэтического мышления: метафорический язык поэзии сам по себе является одной из форм полусокрытого смысла и неслучайно назван Аристотелем подобием «иностранного», тексты же Кокошко представляют собой сплошную вязь метафор, почти лишенную логических просветов. Но это не значит, что их невозможно прочитать.
Ключ к этой системе, на наш взгляд, лежит в области поэтологии, проблематика которой заметно доминирует в лирике Кокошко. О ее стихах можно сказать, воспользовавшись формулировкой Ольги Седаковой, что это поэзия, мыслящая саму себя [см.: Седакова], свои возможности и задачи, рефлектирующая по поводу современной участи поэта — владельца слова. Обладая незаурядным даром поэтологического диагностирования, Кокошко, наряду с интроспекцией своего личного опыта, дает общее представление о современной поэтической ситуации в ее соотношении с прошлым. Голос автора в ее лирике, заявляющий о себе в обеих формах первого лица — «я» и «мы», свидетельствует от имени совокупного «современного поэта», ищущего свой путь в условиях культурного вакуума — «прочерка» между отошедшим словом-письмом традиции и белым листом неизвестного будущего.
Предпринятый синтез современных проблем поэзии мастерски реализован у Кокошко непосредственно в самом стиле, феномен «современного поэта» репрезентируется через его стилевой образ. К чести автора добавим, что содержательность формы всегда расценивалась как одно из мерил большого искусства.
Рассмотрим, как осуществляется семантизация стиля на разных уровнях выразительных средств.
Знаменательная в этом плане роль отведена поэтическому синтаксису, чрезвычайно оригинальному в стихах Кокошко. Он унаследовал от прозы чрезмерно разветвленные периоды с множеством союзных и бессоюзных членений, добавочно загруженных каталогами-перечислениями, которые переходят или вложены один в другой (что в прозе отметил А. Уланов: «всякий член предложения разрастается однородными, само предложение — бесконечными придаточными» [Уланов] и т. п.). Тем самым нагнетается впечатление перенасыщенности, чрезмерного разнообразия подробностей. Но, с другой стороны, синтаксису явно придана установка на неопределенность и недоговоренность. Списки-перечисления обширны, но при этом выглядят случайной состыковкой вещей, без каких-либо логических или ассоциативных скреп: «многие тыквы, реторты, крепышки, / урны, где тлеют мирские дела» («Часы путешествий») [Кокошко, 2018, с. 12], или несуразной смесью из предметов, отвлеченных понятий, функций и состояний: «Где ни подсвистывай отблеск или касатку, / там и январь приговоренных, / обледеневшие начерно снасти осады, засыпанные врата, причины, соприкасанья» («Где ни подсвистывай отблеск или касатку…») [Там же, с. 61]. В ветвистых лабиринтах периодов сказуемые отрываются от подлежащих и теряют их, определения остаются без определяемых слов, ср.: «так что сгрудились (кто, что?) вдоль заноса в омраченных и в стерегущих (в ком, в чем?), по каймам-ботвам расколотой ночи» («Сумерки, недоросли, сизоперые лапсердаки…») [Там же, с. 5] или: «К ним прянет петушиный хлам скорбей, / и тянутся ботфорты и мансарды / умышленных — себе на описанье» («Мой умысел накрыт, как граммофон…») [Кокошко, 2016, с. 26] и т. п.
Как можно заметить, синтаксические конструкции Кокошко, одновременно распространенные и усеченные, оставляют неуловимым некоего субъекта действия, он заменен своими атрибутами или функциями, вытеснен из пространства, загроможденного массой разнородных вещей. Неясность очертаний субъекта Кокошко любит еще специально подчеркнуть разделительным союзом «не то — не то», вносящим в речь оттенок неопределенности: «вал зевак, / высоких и низких станом, / увитым не то листами и головами, / не то арбузами и хвостами, / смахнувшими узнаванье» («Танцующее в пути селенье…») [Кокошко, 2016, с. 50], «кто неуловим, / как сад, зашторившийся в белила, / не то в барочный, складчатый борщевик…» («Снег этого года…») [Кокошко, 2018, с. 18]. «Кто-то» или «что-то» предполагается, но в какую-либо определенную номинацию не укладывается в силу отсутствия различимой формы (ср.: тот же смысл остроумно выражен в метафоре «следов, с которых кого-то сдули») [Там же, с. 61].
На первый взгляд, в этой неопределенности можно усмотреть отражение стратегии нереференциального письма, стремящегося к устранению внетекстового «кого, что» — субъекта, предмета, вещи (и такой подход уже был осуществлен по отношению к прозе Кокошко, см.: [Мамаев]). Однако интроспективная подсказка самого поэта склоняет к иному выводу:
Отыскивается то, в чем не нуждались,
но главное равно нулю — и само в панике мечется
из одной формы в другую, не позволяя читателю
определить, кто оно. Может, траченное на поиск время?
<…> Так ли разумно, думала я, выручать предмет у зоны,
запятнанной — его проглатыванием?
(«Слова, подобные водосбору, изогнутой рыбе…»)
[Кокошко, 2016, с. 28–29]
Этот пассаж выглядит пародийным парафразом мысли Бродского: «и горько, что не вспомнить основного» («Разговор с небожителем»), и эта отсылка помогает уточнить, что дело не в изгнании «существенного предмета» поэзии, а в безуспешности всех попыток его отыскать. В загроможденном синтаксисе тонет «фундаментальная» связующая мысль, все свалено в кучу, как на столе завершенного пира. Нанизывание подробностей не образует ни логической цепи, ни ветвистого дерева ассоциаций, а демонстрирует «топкость любого соединения», как подсказано в одном из стихотворений («Собачко-Бесхлебица и муж ее Недоед…») [Кокошко, 2018, с. 17], или «стихийность любого сцепленья», как поясняется в другом («Гулящие музы и ходкий мотив возвращенья…») [Кокошко, 2016, с. 48]. Автор сознательно создает эффект грамматического «кавардака» (см.: «Касатка приключенье…») [Там же, с. 74] — стилевой образ языкового хаоса.
Поэтологические автокомментарии-подсказки — не редкость у поэтов, «мыслящих поэзию», предметом авторской рефлексии может стать и характерность собственных выразительных средств, в том числе ритмико-синтаксических предпочтений. Так, к примеру, М. Цветаева вслед за Пушкиным (см. вступление к «Домику в Коломне») изобразила себя в роли поэта-полководца, ведущего на приступ стиховое войско (поэма «На Красном Коне»); этот образ как нельзя точнее передает специфику поэтического строя ее поздних стихов с револьверной дробью их ритмов [см.: Слоним, с. 331], слоговыми разрывами слов и ускоренным синтаксисом.
Тактика современного поэта, если сравнить ее с цветаевской, более похожа на партизанскую. Динамику поэтического синтаксиса Юлии Кокошко можно уподобить «заметанию следов» — запутанно-хаотической прогулке по сумеречным задворкам города, она не адепт открытого боя, а «хитроносая прогульщица, на которую охотятся сумерки» («Всякий приличный обмен разделывают в светлое время…») [Кокошко, 2016, с. 35]. Соответственно, синтаксис такой «прогульщицы» передает ее стремление увильнуть от наскучивших уроков-правил словесности, ее стихийно-непредсказуемое передвижение в пространстве языка.
Синтаксическим вольностям отвечает в поэзии Кокошко и стихия словоупотребления, доходящая в своем диапазоне до крайних контрастов. В процессе метафоризации она производит смешение нескольких разнородных словарей, и все они трудны для восприятия.
Наиболее резко бросается в глаза довольно обширный слой метафор, в которых задействованы иностранные слова, причем редко употребляемые в силу их терминологической специфики (термины морские-корабельные, медицинские, спортивные, ботанические, из сферы искусства и т. д.). Чтобы понять смысл таких метафор, читатель должен обладать буквально энциклопедическими сведениями. Приведем ряд примеров, характеризующих свойства «креативного» ума: «порыв-кардамон» (пряность из разряда имбирных) [Кокошко, 2016, с. 23]; «метит путь свой — кляксами абрикотина» (абрикосовый ликер) [Кокошко, 2018, с. 31]; «штука кетгута — для особенно большеротых» (хирургический шовный материал) [Там же, с. 5]; «божественно припущены стихией… / когда не мастихином» (специальный инструмент для смешивания палитры и нанесения краски на холст) [Кокошко, 2016, с. 78]; «арготизм кочегара» (жаргон для посвященных, например, тюремная «феня») [Там же, с. 17] и т. п. В дополнение к этому редкому фонду автор присовокупляет заимствованные слова старого образца, например: «сумерки, недоросли, сизоперые лапсердаки» (серые сюртуки, в переносном значении — нелепая, плохо сшитая одежда) [Кокошко, 2018, с. 5], «поднимающие нравы волшебные декокты» (отвар из лекарственных трав) [Кокошко, 2016, с. 35], «дева Охра—Мехлюдия» (желтизна-меланхолия) [Там же, с. 46], «саквояж с заточенной рацеей» (длинное назидание) [Кокошко, 2018, с. 64] и др.
Дело осложняется еще и тем, что весь этот книжный лексический эксклюзив включается в состав таких трудных для понимания метафорических образований, как парономазия и катахреза, преобладающих в лирике Кокошко. Оба приема основаны на соединении логически несовместимых слов и требуют разгадки целого ряда ассоциативных связей. Возьмем, к примеру, катахрезу «и в каждом клюве спеет репетир» [Кокошко, 2016, с. 66], путь дешифровки здесь таков: репетир — механизм часового боя, клюв — метонимия птицы, связь репетира с клювом указывает на часы-кукушку, что, в свою очередь, отсылает к ахма-товской метафоре «игрушечной» поэзии, ср.: «Заведут — и кукую» («Я живу, как кукушка в часах…»); таким образом, эта катахреза является одновременно перифразой, шифрующей известный в традиции образ.
Столь же изобретательно использует Кокошко игру паронимами, искусно подчиняя их поэтологической цели, ср.: «кляпы — из примул и преамбул» (садовый цветок и вводная часть текста) [Кокошко, 2016, с. 14], «новый голеадор, не то голиард» (лучший футбольный нападающий и бродячий певец — исполнитель остросатирических песен) [Кокошко, 2018, с. 32]; «прилипчивость к ловкой наймитке / сразу же нескольких фабул и фобий» (интрига текста и комплекс страха, агрессии) [Кокошко, 2016, с. 38]. Паронимы подобраны таким образом, что один из них откровенно выводит на поэтологический смысл метафоры, другой же привносит пародийный эффект.
В целом редкая книжная лексика и искусное ее обыгрывание внушают вывод, что автором имитируется язык некоего изобретательного ученого острослова, какого-нибудь филолога-лингвиста — читателя словарей.
Вместе с тем, наряду с книжным слоем, в стихах Кокошко не менее широко представлен прямо противоположный язык — просторечный, уличный: «Ну и неплохо бы лишний бурдюк / чтоб забабахать почерпнутый опыт» («В лысом крыле сквозняка на углу…») [Кокошко, 2016, с. 30], «меж ражих деревьев — косых стерегущих / надравшихся злачной лагуны», «но тютя подмоченный поливальщик, плеснув чем ни есть, поднимает шалман» («На пятничных лодках, входя из протоки в иную…») [Там же, с. 33], «но тут один щегол, заноза ключ, / похерив все долги, разинул клюв» («Ночной незванный в постных башмаках…») [Там же, с. 56] и т. п. Причем этот словарь на фоне нынешнего сленга часто выглядит уже подзабытой языковой архаикой, например: Маруся мерехлюндия; голь и шмоль; шалобродка; шатия с раздорожья; хрычовка; лихоманка; халабуда; и др. Уличную разухабистую речь Кокошко еще и разбавляет чисто блатными словечками, как правило, из арсенала воровской фени: «Назад! На хазу, мамочка душа» [Там же, с. 85], «шмальнуть бандерольку», «беспримерный загашник» [Там же, с. 72–73], «все упустив за подлую полундру» [Там же, с. 77], «хипесница—псица» [Там же, с. 36] и т. п.
К просторечному грубоватому слою примыкает, сохраняя, однако, собственную стилевую специфику, плутовское паясничанье балаганного шута, говорящего на языке старинных ярмарочных представлений. Его словарь и фамильярно-насмешливая интонация угадывается в характерных шутовских олицетворениях: пригород — «дядя Большой Глоток» [Кокошко, 2018, с. 40], площадь — «тетенька сводня» [Там же, с. 55], поселенье — «Шелупонь», трамвай — «улицын сынок», «ярыжка» [Там же, с. 11], мост — «и что же, что пролаза и хромой, / как мамочка попойка и тетушка бранчливая пирушка, зато почти не стоптан» [Кокошко, 2016, с. 34]; или, например, в таком остроумном пассаже, напоминающем вступление к балаганному спектаклю:
Верховое воззвание к дню живому,
к его героям, попутчикам и консультантам,
заштатным и пубертатным — из Шур и Мур
(«Верховое воззвание к дню живому…»)
[Кокошко, 2018, с. 49]
Просторечные и балаганные вкрапления, если их вычленить из контекста, могут вызвать впечатление, что это язык совсем другого поэта, переместившегося из библиотеки в какое-то «лихое местечко», ср.: «Ну и местечко—лихо — ступай, не пялься» («Каждый второй здесь — голубь…») [Кокошко, 2018, с. 27]. Тем не менее, просторечия, жаргонизмы и сугубо книжная лексика свободно уживаются в одном стиховом ряду и даже в составе одной метафоры, например: «снулые синантропные» (в переводе на общеупотребительный разговорный язык — «сонные мухи») [Кокошко, 2016, с. 33], или: «сипачки паника с заварухой сверкают и реют / вкруг своей ненаглядной эгретки» («На позднем портрете улицы Люксембург…») [Там же, с. 63], сипачка — мужичка-хамка, эгретка (от фр. ‘цапля’) — дорогое украшение для женских причесок из перьев белой цапли. «Сипачка» соотносится с «эгреткой» так же, как базарная площадь с аристократическим салоном, метафора в целом означает грубую ругань за овладение светским престижем, или полное неразличение «низов» и «верхов» (и в социальном, и в поэтологическом смысле).
Столкновение разнородных слоев лексики точно так же, как запутанный синтаксис, воспроизводит ситуацию языкового Содома, в котором сблизились и смешались полярности: книжный, ученый верх и уличный низ — письмо и разговор, причем, представленные в крайних вариантах своих словесных изысков. Как можно заметить, автор дает свод тех языковых игр и словесных фокусов, которые составляли доминирующую черту поэтического постмодерна конца ХХ в., поставившего целью разрушение иерархии сущностей и стилей [см.: Зубова].
Воплощенная в стиле ситуация языкового Содома в одном из стихотворений Кокошко выведена на уровень открытой темы. Очевидно, неслучайно этим текстом как итоговой поэтологической рефлексией завершается стихотворный раздел книги «Под мостом и над мостом»:
В нескольких стенах субботы, оставшись одна,
Плачу о пятнице: там ли испятнанный дол
И перехваченный ста языками Содом…
Ветреный дон, и глухой и раскатистый дон,
Не порывая с дымами, пасут письмена.
[Кокошко, 2016, с. 88]
У слова «дон» здесь нет лексического значения, оно участвует в создании звукообраза: дол — дом — дон — дон — дым. В этих созвучиях слышится и языковой гам (дол-дон), и вместе с тем — какие-то тревожные удары пожарного колокола (ср. реплику в дневнике Цветаевой: «Дон. — Дон. — Не река — Дон, а звон» [Цветаева, c. 50]). Звон — погребальный или призывный, во спасение «музы»? В последней строфе семантика звукообраза переходит в открытую метафору «пережигающих музу пожарных оркестров»: результат «спасителей-пожарных» равнозначен самому «пожару».
Под спудом языкового хаоса (другие его метафорические аналоги в лирике Кокошко — «дым» и «песок») обнаруживается еще один языковой слой — собственно поэтический словарь, или метафорический арсенал традиции. Он, пожалуй, составляет наибольшую трудность. И не только потому, что требует от читателя весомого литературного багажа, а дело еще в том, что в текстах Кокошко не сразу и различишь само литературное происхождение слова-образа, его исходную метафоричность. Поэтический словарь традиции в ее лирике теряет свою особость и верховность в составе прочих языков, на фоне которых он не заметен.
Отмена иерархии языков и, как следствие, стилевая профанация традиции отслежена и воплощена автором как одна из самых симптоматичных тенденций, характеризующих феномен «современного поэта». Примечательно в этом плане, как воспроизводится у Кокошко современная манера цитации: чужое слово лишается своей прежней серьезной значимости, выглядит не иначе как откликом пересмешника, цитата пародийно целит в свой источник, к примеру: «а кирпичные шедевры, / изрыгающие смелость / мировой литературы, распускают амплитуды. / Визги, брызги, трескотня — / или мышья беготня?» («В угловой оконной раме…») [Кокошко, 2016, с. 79]; пушкинская метафора («жизни мышья беготня») меняет здесь вектор своего смыслового направления, намекая на суесловие самой идущей от классика литературной традиции. Об укоре нившейся привычке к пародийному низложению цитаты открытым текстом говорится в стихотворении «Она ко мне желает говорить…»: «Чьи посохи сошли в несметный Рим? / Да повторим! / Наречием какой из канцелярий?» (цитата из Мандельштама) [Там же, с. 44].
Но прямых реминисценций в стихах Кокошко не так много. Чаще всего в качестве исходного материала берется не цитата, а самая мелкая единица — слово, некогда уже получившее в поэзии определенный метафорический смысл. Таким готовым словарем автор пользуется довольно часто, производя вторичную метафоризацию метафор, причем заимствует при этом и саму технологию строения образа. Приведем характерный пример такого метода: «Вокзал для оборванцев, или осень / идет на кон, поскрипывая осью / и совращаясь в табор—карусель» («Сбившиеся с пути») [Кокошко, 2016, с. 84]. В развертывании этого образа, как можно заметить, участвует поэтическая лексика Мандельштама (ср.: «вокзал», «нищенски дрожит», «скрипучий поворот руля», «табор улицы темной», «чтоб вертелась каруселью кисло-сладкая земля» и т. п.). И механизм метафоризации здесь тот же, что у Мандельштама: отброшен логический ключ метафоры, оставлена только ее образная часть, понятийная расшифровка образа отсутствует, метафора поясняется другой метафорой (о специфике метафориза-ции у Мандельштама см.: [Гаспаров]). В приведенных стихах как будто слышится и отдаленный резонанс «трагической осени» Ахматовой (ср.: «И в осени, что подошла вплотную…» («Сон» из цикла «Шиповник цветет»)), но эта аллюзия уже слишком слабая для уверенной ее идентификации.
Заметнее всего заимствования из лирики Мандельштама в силу резкой оригинальности его метафорики, в других случаях установить конкретный источник образа намного сложнее, поскольку даже самые ходовые метафоры, имевшие в традиции большой резонанс, в стихах Кокошко завуалированы до неузнаваемого вида. Возьмем, к примеру, известную с древнейших времен метафору корабля и плаванья, знаменующую вдохновенный поэтический труд, метафора была чрезвычайно популярной в пушкинскую эпоху, хрестоматийный ее вариант: «Громада двинулась и рассекает волны… Куда ж нам плыть?» (образ из финала пушкинской «Осени», который, в свою очередь, отсылает и к стихотворению Державина «Благодарность Фелице», и к сонету Мицкевича «Плаванье»); другие знаменитые образцы — «Плаванье» Бодлера (в гениальном переводе Цветаевой) и «Пьяный корабль» Рембо. Кокошко помнит об этих больших «кораблях» (см., например, первое стихотворение из цикла «Сбившиеся с пути»), но чаще всего в ее лирике эта метафора умалена до самых минимальных размеров, так что не сразу и распознаешь, что именно к ней имеют отношение ялик—скорлупа; квохчущие буксиры; посудина буфф; пробел шебеки — с прочерком фелуки и что такие мелкие намеки, как весло; мачта; борт; трюм; брамсель и трюмсель; а то и только хождение в порт — это метонимические осколки бывшего целого традиционной метафоры; что образ-загадка «вор треуголки — вихляющий бедрами парус» [Кокошко, 2018, с. 71] является перифразой поэта-арлекина.
В современном тексте метафорический словарь традиции не обновляется и не преумножается, он измельчен, раскрошен, пародийно вывернут или закамуфлирован, текст не хранит памяти о поэте-предшественнике, превращая его в анонима, в забытый факт. Эта тенденция к забвению в лирике Кокошко не только реализуется в самом стиле, но и открыто резюмируется на мотивно-тематическом уровне, причем оценивается взглядом издалека — с позиции иной поэтической практики. Так, в стихотворении «Вниз, в непоследовательный загород, шитый…», упоминая о судьбе бедного «тритагониста», забытого «в трюме или в черной душе котельной / под обвалом своих терзаний», автор заключает: «да и как спасти — поди—ка вспомни / имя автора по борту или притолоке застенка» [Кокошко, 2018, с. 39]. Такая формулировка мотива забвения выглядит откликом на поэтологическую максиму акмеистов, которая, в свою очередь, восходит к пушкинскому завещанию: «Нет, весь я не умру <…> доколь в подлунном мире / Жив будет хоть один пиит». Комментируя эти строки в связи с поэтикой Ахматовой, А. Найман пояснял: «поэзия и есть память о поэте <…> всякая о всяком, — но чтобы стать таковой, ей необходимо быть усвоенной еще одним поэтом, все равно, в “поколенье” или в “потомстве”» [Найман, с. 98]. Любопытно, что буквально ту же мысль встречаем мы в стихах Кокошко: «Конечно, если другой пришелец <…> подтвердит, что поход мой — выше, чем шелест…», без этого отзыва, как утверждает автор, и современный поэт рискует остаться «малым Фирсом» — «из кинутого скоростями автомобиля, в коем его забыли» («В неустойчивом ритме») [Кокошко, 2016, с. 24], и ему грозит перспектива: «отсюда — и в вереницы, отныне — и в анонимы» («Стоило сняться с ильмова и с гонтовского листа…») [Кокошко, 2018, с. 70].
Тактика новейшего поэта, воспринимающего великое наследие поэзии как отягощающее бремя, в свое время была подробно описана в известной книге Г. Блума «Страх влияния». По мысли автора, поэту-эфебу, явившемуся на закате традиции, уже исчерпавшей свои ресурсы, ничего не остается, как повторять, сознательно устраняя с пути автора-предшественника, мешающего заполучить пальму первенства. Эта тактика остроумно спародирована в одном из прозаических текстов Кокошко: «дело привычное, почти благородное — цыганишь чей-то знатно произнесенный пассаж, отрезок, огрызок — и придерживаешь, а говоривший — ну его в бездну… куда уж сколько их упало. Столкнуть с целью завладения имуществом. Далее и более не принадлежит своей речи, ах, факельщик, своей любовью пылкой ты надоел, как чадная коптилка, зато его речь — уже моя, если повезет — наша» («Привычка к уподоблениям») [Кокошко, 2016, с. 94]. Авторским курсивом выделены здесь цитаты из Цветаевой и Шекспира (и нужно заметить, что само их выделение противоречит утверждаемой здесь мысли о бесцеремонном присвоении).
В лирике та же тема, многократно варьируясь, образует сквозной лейтмотив литературного воровства, причем он сам тоже принадлежит к разряду «перехваченных». Кокошко развивает этот мотив вслед за Мандельштамом (см. пассаж о «вороватой цыганщине писательского отродья» в «Четвертой прозе» [Мандельштам, с. 96]), с той разницей, что она не выделяет себя из общей компании продувных малых и, отказываясь от прямой инвективы, выбирает тон шутовской насмешки, ср.: «О так, мы лучшая бражка немолчных» («Как блаженно ты существуешь, моя душа…») [Кокошко, 2018, с. 11], «Снискавший песнопений, он не знал, / поющие — из шатии менял», «с бездонным оком вора и лгуна, / чье поприще — шпана» («Страстный напев в рецидивах») [Кокошко, 2016, с. 77]. Творящая братия, персонажи ее лирики, — это, в основном, мелкие жулики: оборванцы с «обнищалых обочин», карманники, перекупщики, старьевщики, менялы и т. п., сбывающие краденое «на блошином, мышином рынке»: «Воры, доставшие оком чудесных даров <…> вдруг умалились, втянулись в разломы и копи / малопорядочных золоторотцев—дворов» («Воры, доставшие оком чудесных даров…») [Кокошко, 2016, с. 52], «Что ни вещи, то с распродажи / и разят закисшими адресами» («Колесящие на черепахах…») [Там же, с. 21]. Метафора поэтического «рынка» тоже «перекуплена», ее адрес — вступление к «Домику в Коломне»: «И табор свой с классических вершинок / Перенесли мы на толкучий рынок», у Пушкина это означает — в самую гущу жизни, в противовес устаревшему культу античной классики. То же самое подразумевает «блошиный рынок» современного поэта, но уже в противовес классике отечественной. Причем снижение бывшего «величия» творящего духа достигает предельной точки: с высот классического Парнаса поэтическое сословие перенеслось на самое дно жизни, перейдя в категорию отверженных бомжей. Символом «летучей расы» поэтов в стихах Кокошко объявлена ворона — «шпанская Филомела» (пародийная перифраза вороны — «соловей шпаны» — подразумевает «поющих — из шатии менял», «чье поприще — шпана») (см. «Страстный напев в рецидивах») [Там же, с. 77]. Автор производит кардинальную смену певческих «птичьих пород»: вместо традиционных сиринов, соловьев и лебедей — вороны, грачи, скворцы, цапли, петухи (все они напоминают персонажей басен); вместо «соловьиной песни» — «птичья возня». Примечательна в этом плане пародийная аллюзия, отсылающая к знаменитому «Лебедю» Маллармэ: параллелью к образу гордого поэта-лебедя, одиноко замерзающего во льду омертвевшего бытия, у Кокошко выступает утка «на прозрачном льду»: «хлюпает и кружит, / никак не наполо—скамшись, / собралась, как честная утка, / улететь, уплыть… но конфузно бежит, / перебирая онемелыми желтыми лепестками» («Что-то мне ничего не пишет, не машет…») [Кокошко, 2018, с. 48].
Как можно было не раз убедиться, пародийный перепев какого-либо известного в традиции образа или мотива в лирике Кокошко является не частным случаем, а закономерностью, определяющей саму суть ее системы. Иначе говоря, «сниженный» облик современной поэзии у нее целенаправленно выставлен не чем иным, как пародийной тенью традиции. Современность в соотнесении с полузабытым прошлым ею обрисована как перевернутый мир: прежнее высокое бытие поэзии сменилось суетой безбытности, аристократы духа — нищими, званые — падшими, крылатый конь — дворовой «песьей тварью» и т. п. Соответственно, чистая духовная пища («молоко» и «мед» в библейской метафорике, использованной у Кокошко) заместилась «скисшей» продукцией «блошиного рынка». Ключевые метафоры, подразумевающие этот переворот — «над мостом» (переклички на «воздушных путях») и «под мостом» (распродажа на «мышином блошином рынке»), а самого «моста» нет: «а переправы и вовсе нет» («Собачко-Бесхлебица и муж ее Недоед…») [Кокошко, 2016, с. 17] — мотив, подхваченный от Бродского (а у него самого — от Державина): «Бежит рекой перед глазами время» — «поток без переправы» (стихотворение «Менуэт»).
Если взглянуть на нашу тему в культурологическом ракурсе, то можно заметить, что образ «современного поэта» в лирике Кокошко логически завершает нисходящую линию тех трансформаций, которые пережила русская поэзия на протяжении прошедшего века. Обозначим основные звенья этой линии, зафиксированные в поэтологических программах ХХ в. Со времени своего генезиса на протяжении тысячелетий поэт — это медиатор, творящий под божественным покровительством Музы. Мусическая поэзия осмысляет себя как пророческое откровение, говорит «языком богов», поэт исполняет миссию культурного героя, устроителя духовного здесь-бытия.
В России последние медиаторы-жизнестроители — символисты. Закат муси-ческой традиции в начале ХХ в. повлек за собой резкое разделение поэтологи-ческих позиций: с одной стороны, ставка поэта-авангардиста на беспрерывное обновление, поэзия как арена ниспровержения канонов; с другой — апотро-пейная установка поэта-хранителя, поэзия как музей поэтических древностей (поэтология акмеистов, верность которой в течение всей своей жизни хранила Ахматова).
Следующий этап: поэт-изгой, отверженный дух, чья миссия культурного героя подвержена обструкции (поэтология позднего Мандельштама), и близкий ему поэт-гностик, которому свойственно эсхатологическое сознание беспросветной плотоядности мира, уже не нуждающегося в пище духовной; в этом случае функция культурного героя отменяется самим поэтом, творческий дух ставит своей целью возвращение в запредельную сферу своей духовной родины (поэтология Ходасевича и Цветаевой).
Новый поворот отмечен творчеством Бродского: поэт-сирота, которому осталась «только память о себе», не нужный на земле, он не имеет и надежды на возвращение в духовную обитель, так как «вся вера есть не более, чем почта / в один конец» («Разговор с небожителем»), единственное пристанище поэта — еще живой дух языка.
И, наконец, запечатленная Юлией Кокошко современная ситуация: Орфей «в ободранном быту» — поэт-бомж, обитатель городских подвалов и загородных трущоб, кормящийся крохами прошлого поэтического пиршества; поэзия в целом приобретает статус «регионального» явления, будучи вытесненной из бывшего «олимпийского» центра на окраины распавшегося бытия. Главной задачей поэзии в этих условиях становится выживание, и в качестве наиболее актуального способа выживания современный поэт выбирает гамлетовский вариант сопротивления времени. Феномен современного творческого сознания, воспроизведенный Юлией Кокошко, вбирает в себя весь гамлетовский комплекс: страстное неприятие «вывихнутого века», память о прошлой миссии поэта и неверие в возможность ее продолжения, сомнение в своих силах и, наконец, перевод героико-трагического противостояния времени в шутовскую форму арлекинады. Культурный герой уступает место трикстеру-разруши-телю, первостепенность роли которого обусловлена статикой «устаревшего» времени — «сумерками» духа, уже не преумножающего культуру, а профанирующего ее. Время не строить и хранить, а, как сказано у Экклезиаста, — «время разбрасывать камни».
Источники
Кокошко Ю. Под мостом и над мостом. М. ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2016. Кокошко Ю. Сумерки, милый молочник. М. ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2018. Мандельштам О. Сочинения : в 2 т. Т. 2 : Проза. Переводы. М. : Худож. лит. 1990. Цветаева М. Собрание сочинений : в 7 т. Т. 4, кн. 2. М. : ТЕРРА : Книжная лавка — РТР, 1997.
Исследования
Гаспаров М. Л. «За то, что я руки твои…» — стихотворение с отброшенным ключом // Гаспа-ров М. Л. Избр. ст. М. : Новое лит. обозрение, 1995. С. 212–220. (НЛО. Науч. прил. ; вып. 2).
Екатеринбург литературный : энцикл. слов. / гл. ред. В. А. Блинов, Е. К. Созина. Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2016.
Зубова Л. В. Современная русская поэзия в контексте истории языка. М. : НЛО, 2000.
Мамаев К. Письмо и текст. О прозе Юлии Кокошко [Электронный ресурс] // Топос : лит.-филос. журн. 2007. 6 нояб. URL: http://www.topos.ru/article/5898 (дата обращения: 08.11.2018).
Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой : Из кн. «Конец первой половины XX века». М. : Худож. лит., 1989.
Подлубнова Ю. Хрусткие боскеты павлиньих ваз // Вещь. 2018. № 1 (17). С. 112–114.
Седакова О. Русская поэзия после Бродского. Вступление к «Стэндфордским лекциям». [2007. 1 дек.] [Электронный ресурс]. URL: http://olgasedakova.com/Poetica/244 (дата обращения: 10.11.2018).
Слоним М. О Марине Цветаевой // Воспоминания о Марине Цветаевой / сост. Л. А. Мнухин, Л. В. Турчинский. М. : Сов. писатель, 1992. С. 306–350.
Уланов А. Лепестки лепестков : [рец. на кн.: Кокошко Ю. За мной следят дым и песок : повести] [Электронный ресурс] // Знамя. 2013. № 1. URL: http://znamlit.ru/publication.php?id=5783 (дата обращения: 12.11.2018).
References
Blinov, V. A., & Sozina, E. K. (Ed.). (2016). Ekaterinburg literaturnyi: enciklopedicheskyi slovar’ [Literary Yekaterinburg: Encyclopaedic Dictionary]. Moscow; Yekaterinburg: Kabinetnyi uchonyi. (In Russian)
Gasparov, M. L. (1995). “Za to, chto ia ruki tvoi…” — stikhotvorenie s otbroshennym kliuchom [For the Fact that I am Your Hands … — a Poem with the Key Thrown away]. In M. L. Gasparov, Izbrannye stat’i [Selected Articles] (pp. 212–220). Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian)
Mamaev, K. (2007). Pismo i tekst. O proze Julii Kokoshko [Letter and Text. About the Prose of Yulia Kokoshko]. Literaturno-filosofskyi jurnal “ Topos”. Retrieved from http://www.topos.ru/ article/5898. (In Russian)
Naiman, A. (1989). Rasskazy o Anne Ahmatovoi: iz knigi “Konez pervoj poloviny XX veka” [Stories about Anna Akhmatova: From the book The End of the First Half of the 20th Century]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura. (In Russian)
Podlubnova, Ju. (2018). Hrustkie bosketi pavlin’yih vaz [Crunchy Bosquets of Peacock Vases. Book Review on Kokoshko, Yu. Dusk. Sweet Milkman]. Veshch’, 1 (17), 112–114. (In Russian)
Sedakova, O. (2007). Russkaya poeziya posle Brodskogo. Vstuplenie k “Stenfordskim lekciiam” [Russian Poetry after Brodsky. Introduction to the Stanford Lectures]. Retrieved from http:// olgasedakova.com/Poetica/244. (In Russian)
Slonim, M. (1992). O Marine Tsvetaevoi [About Marina Tsvetaeva]. In L. A. Mnuhin, & L. V. Turchinsky (Eds.), Vospominaniia o Marine Tsvetaevoi [Memories of Marina Tsvetaeva] (pp. 306–350). Moscow: Sovetskyi pisatel’. (In Russian)
Ulanov, A. (2013). Lepestki lepestkov [Petals of Petals. Book Review on Kokoshko, Yu. Smoke and Sand are Watching Me: Stories]. Znamya, 1. Retrieved from http://znamlit.ru/publication.php?id=5783. (In Russian)
Zubova, L. V. (2000). Sovremennaya russkaia poeziia v kontekste istorii iazyka [Modern Russian Poetry in the Context of the History of Language]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian)
Подкорытова Татьяна Ивановна Podkorytova, Tatiana Ivanovna
кандидат филологических наук, доцент PhD (Philology), Associate Professor
независимый исследователь Independent Researcher
Омск Omsk, Russia
E-mail: alexandromsk@yandex.ru Email: alexandromsk@yandex.ru
Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 2 (187)