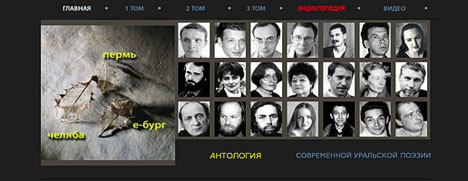Наталья Арнольдовна Кузьмина, зав. кафедрой стилистики и языка массовых коммуникаций ОГУ им.Ф.М.Достоевского, доктор филологических наук, профессор о книгах Виталия Олеговича Кальпиди:
Философия книги Виталия Кальпиди: в поисках ускользающего смысла…
В филологических работах последних лет стало общим местом утверждение о том, что современная поэзия – поле для широкомасштабного эксперимента с формой и смыслом. Много говорилось о постмодернистских рефлексах в философии и языке поэзии ХXI в., о близости ее к опытам авангарда начала прошлого, двадцатого, столетия, о феномене непрерывно разворачивающегося текста-ткани, отказывающегося от «записи об отцовстве», не знающего понятия цельности, «бесконечно открытого в бесконечность» [Барт 1989: 425]. Но при этом, как нам кажется, никогда не ставился вопрос о том, что именно в современной поэзии, наряду с тенденцией к деконструкции, децентрации, к воплощению хаоса, набирает силу и противоположная тенденция к упорядочиванию поэтической материи, возрождается интерес к циклизации как способу гармонизации хаоса и порядка, к феномену Книги стихов. Между тем мощный научно-технический прогресс, бурное развитие полиграфической промышленности, внедрение в книгоиздание компьютерных технологий, ренессанс в книжном дизайне стимулировали появление авторской книги стихов как синтетической формы, обнаруживающей новые возможности умножения смыслов за счет семантизации ее «технических» составляющих. Назовем здесь имена Веры Павловой, Елены Фанайловой, Льва Рубинштейна, Полины Барсковой, Елены Шварц.
Можно с уверенностью утверждать, что Виталий Кальпиди – поэт Книги, книга – постоянный объект поэтической и метапоэтической рефлексии автора. Достаточно сказать, что из восьми книг, изданных с 1990 г., и первая «Аутсайдеры-2» (1990), и последняя на сегодняшний день «Контрафакт» (2007) имеют подзаголовок Книга стихов. Размышления об этом феномене «прошивают» и поэтическую материю, и прозаические предуведомления («Запахи стыда», 1999) и комментарии (Мерцание», 1995). Количество и разнообразие «книжной» лексики, употребленной и в прямом, и в метафорическом значении, впечатляет: пергамент, шрифт, цезура, переплет, золотой обрез, мелованный, обрез, пронумерованный, целлюлоза, папирус, кожа, калька, спасающая лоск иллюстраций; высокая печать, аппетитный, как крошки, петит; книгопечатание, цензура, комикс Ветхого Завета и мн.др. Если реконструировать авторскую философию Книги по этой «метатекстовой ленте» (Н. Вьялицина), то получим следующее.
Книга, по Кальпиди, онтологически антиномичный феномен и обладает следующими взаимоисключающими свойствами: ‘материальное/ идеальное’, ‘рациональное/ иррациональное’, ‘личное/ внеличное’, ‘индивидуальное/ коллективное’, ‘статика/ динамика’, ‘ре-месло/ вдохновение’:
Она выстраивается автором, делается с помощью определенных техник (Техника написания книги была проста – ЗС). Этот процесс исключительно прозаичен (Мысль сварганить книгу по схеме сиамских близнецов – тривиальна, ЗС). Он вовсе не сопровождается «почетным эскортом призраков вдохновения» (КФ), в нем соединены вдохновения выдох нечистый и позорная тяжесть труда. Но вместе с тем происхождение Книги таинственно и трансцендентно, внеположенно челове-ческому существованию, она извлекается из ниоткуда, по замашкам похожа на чудо, она как жест, что стряхнула десница (чья? – догадайтесь), новое небо, что рвется из высохшей кожи заката. Книга обладает телеологической природой: она пишется (кем-то! – бессубъектная, безличная форма глагола здесь особенно значима), согласно собственной логике, даже независимо от пишущего-записывающего, черным по белому, белым по черному, всяким на всяком. Книга наделяется свойствами некоей высшей воли или высшего существа, диктующего эту волю, повелевающего поэту, преподающего ему уроки: Не мы читаем книгу, а Книга читает нас (Мерцание); Книгу читая, не раз уж блазнилось (да ведь?)/ Словно ты ею внезапно открыт и прочитан (Лирический трактат); то за горло возьмет втихомолку, покачает и снова возьмет, И не ставит обратно на полку, а презрительно набок кладет.
Книга имеет природу материального объекта, артефакта, в разговоре о ней появляется вещественная лексика, апеллирующая ко всем сенсорным рецепторам: мы видим и ощущаем под пальцами глянец бумаги, слышим хруст переплета, напоминающий захрустевшего хлеба образчик, вдыхаем запах сладкой плесени. Книга: па-пирус-осирис и рисовый стебель… кожа речных лошадей, и слонов, и бизонов. Вместе с тем метафоры книги соединяют материальное и идеальное в фигуре оксюморона: ангел мелованный с пронумерованным шелестом крыльев; не книга – от корки до корки, а лес – от коры до коры; книги падают вниз корешками, трещат переплёты, шелушатся страницы и делают шелест осенний. Книга – это сама Жизнь, а Жизнь есть Книга. Кальпиди делает поэтический штамп обратимой метафорой и потому заставляет его звучать по-другому. Книга – явление природы, строчка Заболоцкого «читают деревья стихи Гезиода…» оживает в римейке Кальпиди: Читают деревья брошюры и книги,/ надев переплетов тугие вериги/ Как только запрут их двуногие маги / в белесую темень бездонной бумаги. Но Книга еще и сама жизнь, термин автобиографии, «чистовик книги делает жизнь, потраченную на ее написание, черновиком» (ЗС).
У книги есть автор, ведь ее строительный материал – обломки его жизни, фрагменты собственного опыта (Контрафакт). Вместе с тем это и борхесовская Книга, длинная-длинная, без переплета, которая пишется Екклесиастом, Бианки, прыщавым юнцом из Бобруйска, Бродским и многими другими, чьи имена и тени встречаются на страницах произведений Кальпиди. «В его стихах постоянно слышатся отголоски чужих интонаций – в ранних стихах это в первую очередь ранний Пастернак и поздний Мандельштам, потом начинают звучать Жданов и Парщиков, сегодня то и дело прорывается Бродский» (М. Липовецкий). На страницах последней книги с «говорящим» названием «Контрафакт» и не менее значимым подзаголовком Книга стихов и поэтических римейков в той или иной форме присутствуют еще и Заболоцкий, Пушкин, Ли Бо и Виктор Цой, Дельвиг и Платон, Набоков и челябинская поэтесса Вера Киселева, Агния Барто, Тютчев и Мацуо Басё и даже сам автор в качестве объекта для рефлексии (героиня его стихов опять «Ресницы» В. Кальпиди распахивает перед сном), а заканчивается «Контрафакт» «Римейком на собственные стихи из книги «Контрафакт». Вместе с тем «присутствие чужих голосов не лишает поэзию Кальпиди четкой авторской интонации» (М. Липовецкий): они «вплавлены» в единый, сугубо индивидуальный, очень личный авторский замысел каждой книги.
Меняется и роль Читателя. «Текст как ноумен (вещь-в-себе) – химера, – считает Кальпиди. – После того, как ее (книгу – Н.К.) оставил автор, она физически начинает искать Читателя». По мысли Кальпиди, почти дословно повторяющей философские пассажи Ж. Деррида или Р. Барта, «Автор и Текст — отношение с двумя результатами, один из которых всегда известен: художественное произведение — это поражение, ибо не может заменить собой Жизнь»; «Главная тайна на земле – это тайна Читателя….Мы – Читатели».
Книга – остановленный момент Бытия: в Предуведомлении автора Кальпиди пишет: «Книга ЗС рождалась не мертвой, как это происходило с предыдущими моими книгами, а умирающей…». Книга фиксирует «жесткую копию» (параллельно любому записывающемуся тексту всегда не-записывается другой конкретный текст), чистовик отнюдь не лучший вариант черновика, а напротив, умышленное сокрытие первым проблем последнего (М). Можно только попытаться преодолеть это противоречие, если зафиксировать не один вариант «первотекста», а, например, «два черновика», хотя, впрочем, нерожденный дважды, реальнее рожденного единожды (ЗС). Книга – как всякий «продукт» творчества человека – всегда неудача, однако «интенсивное сочленение локальных неудач и создает мерцание удачи (читай: истины)» (Мерц).
Как следствие – парадокс. Кальпиди заявляет: Единство книги…скрывает не столько отсутствие какого-либо единства, сколько невозможность самой книги как жанра – в принципе (Мерцание) – и – вопреки декларациям – в своей художественной практике остается верен именно этой форме интеграции поэтического содержания. Почему? Какие новые возможности дает мастеру Книга? Каким образом его метапоэтические установки отражены в художественном творчестве?
Прежде всего, книги Кальпиди представляют собой полиграфическое единство с тщательно продуманными составляющими — обложкой, шрифтом, рисунками и т.д. Так, комментируя лирическую книгу «Ресницы» (1997), В. Тхоржевский замечает: «Книга… издана почти безукоризненно: в суперобложке с фотопортретом автора (С. Жатков), с отличным дизайном А.Данилова (на хорошей бумаге и вплоть до сиреневых крапинок на красно-фиолетовой обложке). Книга иллюстрирована по-китайски изощрёнными рисунками Вячеслава Остапенко. По своему опыту знаю, что сделать такой одномоментный графический рисунок типографской краской на бумаге, с последующей небольшой подрисовкой, как чрезвычайно просто, так и чрезвычайно трудно, т.е. дано не всем. Более остроумное дизайнерское решение я видел только в книге Алексея Парщикова, который проиллюстрировал свой физический внутренний мир рентгенограммами (не скрывая при этом некоторых патологических изменений)» [Виталий Тхоржевский. Кальпиди как зеркало… // http://abursh.sytes.net/abursh_page/Kalpidi/Thor_oVK.asp].
Еще более изысканно выглядят «Запахи стыда» (1999), над которыми работал тот же художник в союзе с дизайнером Верой Макаровой и продюсерами Владимиром Абашевым и Анной Сидякиной. В выходных данных указан также собеседник – Аркадий Бурштейн – новый способ номинации традиционного субъекта посвящения. Изобразительный ряд в этой книге, выстроенной по принципу зеркала (или «сиамских близнецов», как пишет сам автор), превращается в компонент семантической структуры книги. Книга распадается на две части – «две изящные книжечки (цвета меланхолии), замкнутые в прелестную черную коробочку» (О. Тхоржевская): текст и его вариацию, запись и перезапись, которые, по словам Кальпиди, при создании «жесткой копии» книги превратились в «черную» и «желтую» версии – соответственно цвету бумаги. Принцип симметрии не выдержан до конца: в каждой «копии» по 8 стихотворений с повторяющимся заглавием и вариативным вербальным и живописным компонентом и по 4 неназванных, озаглавленных по первой строке стихотворения (всего 8) «без перезаписи». И хотя в «Предуведомлении» автор всячески пытается показать случайность и самопроизвольность книги, отсутствие замысла (…как и для чего делалась эта книга? Почему? Бог мой, кто бы знал, как мне хочется ответить: «По кочану!»), однако это не более чем тщательно продуманная и спланированная игра с читателем по правилам, разработанным автором и известным только ему.
В «Хакере» (2001) изобразительный ряд представлен изысканно-эротическими фотографиями Юрия Чернышева, провоцирующими мотив сексуального вторжения-«хакерства» и как бы визуализирующими некоторые стихотворные строки: На входе в эту Сеть ввести пароль / мне помогает каменная соль, / пока вспотевший ею Командор, / схвативши Дон Гуана за упор / причинности (а вовсе не за руку), / на порно-сайт воло́чит эту суку. Появляется и звуковое сопровождение – CD с записью авторского чтения стихотворения «Хакер». Дизайнер Вера Макарова тщательно продумывает расположение стиха в пространстве страницы, предваряя его черной трапецией-заставкой, острым клином устремленной вниз, как бы вторгающейся в стих. На черном отчетливо проступают белые заглавия, замещающие их звездочки, посвящения, эпиграфы или авторские четверостишия, вынесенные в препозицию и приобретающие функцию автоэпиграфа.
В «Контрафакте» (2007) Кальпиди вновь возвращается к сотрудничеству с Вячеславом Остапенко – его гротескно-ироническая графика заставляет вспомнить о рисунках Михаила Шемякина (его иллюстрациях к Гоголю, Гофману, Булгакову), это не традиционная иллюстрация, но содержательный компонент книги, требующий от читателя при-стального внимания, размышления-разгадывания, это голос, вплетающийся в общую симфонию, взаимодействующий с вербально выраженным смыслом.
Таким образом, каждая книга Кальпиди имеет особый замысел, особый архитектонический стержень. Как справедливо заметил Владимир Абашев, «Виталий Кальпиди сегодня один из немногих, кто выпускает книги стихов в собственном жанровом смысле этого слова», при этом каждая его книга отмечена обновлением тематики и стилистики, в каждой он «целенаправленно «ломает» свой голос – неудачный эксперимент явно предпочитая уверенному повторению пройденного» (М. Липовецкий).
Остановимся подробнее на книге стихов «Мерцание» (Пермь, 1995). В отличие от других книг, графический компонент в ней менее значим (впрочем, сохраняется работа со шрифтом) и на первый план выступает вербальный – то, что Ю.Б. Орлицкий называет прозиметрией: книга объединяет стихотворные и прозаические фрагменты, причем последние представляют собой автокомментарий к стихам. В «Мерцании» 16 стихотворений, из которых 14 сопровождаются построчным комментарием, помещенным после каждого стихотворения, причем объем постскриптумов и примечаний едва ли не превышает общую площадь собственно стихов. А, по мнению некоторых критиков, по напору, экспрессии — возможно, и превосходит. Завершает книгу раздел POST SCRIPTUM, озаглавленный «Сад мертвецов». Он имеет промежуточную, амбивалентную семиотическую природу: он не принадлежит книге, он после-текст и одновременно включен в нее. Кальпиди эксплицирует эту двойственность в авторском предуведомлении, следующем после заглавия: «У меня было много аргументов в пользу того, чтобы включить «Сад мертвецов» в книгу «Мерцание». Еще большее количество их настаивало на противопо-ложном…результат их псевдоспора не то чтобы налицо, но на бумаге-то, как видите, вполне явлен».
Итак, что же представляет собой основная часть, или собственно книга?
В стихотворениях указаны номера начальных строк четверостиший (хотя графического выделения строф может не быть или же это не катрены, а например, секстины или еще более крупные стиховые единства): комментарий помещается после каждого текста и открывается теми же номерами, показывающими, к какому месту в стихе он относится (в Интернете это оформлено как гиперссылки). Более того, наряду с построчными комментариями, Кальпиди использует и другой знак сноски-гиперссылки – астериск, или звездочку, поставленный перед комментируемыми строками. Таким образом создается многослойность комментария, который может охватывать и несколько строк, и строфу, и более крупные фрагменты текста: Стихи 1-24 можно считать периферийными; Основной текст с одной компромиссной паузой (45-48). Астериск же маркирует особо комментируемые слова и словосочетания, входящие в пронумерованные строки: Кин-чон – зеркальная запись слова «ночник»; Понеже – привет от Фасмера. Пылекрылый — эвфемизм вдохновения, за которым почти всегда стоит седое Псевдо (ср. седую бездну у И. Жда-нова в стихотворении «Портрет отца») – это деперсонализированная ипостась Тьмы.
Комментируются (семиотизируются) не только содержательные, но и формальные, строевые моменты стиха: ритм, рифма, знаки препинания и межстрочного интервала-пробела (Здесь употреблена палиндромная рифмовка; Изощренная форма рифмовки – следствие яростной борьбы (войны) автора с рифмой; Ритм – компиляция ритма первых двух стихов «Элегия Н.Н.» Милоша (перевод И. Бродского); Многоточие суть капитуляция=усталость автора; К скобкам: никак не могу отучить себя от подобного «ритуального обрядорядства; Интервал перед последней строфой не логический, а эмпирический: этим интервалом я почтил память десяти строф в черновике, в которых я с тупой настойчивостью все-таки пытался вернуть себе и тексту «видение Алсу»; Интервал между 36 и 37 стихами – графический протест против собственной инерции восприятия.
Можно высказать предположение, что единство стиха и автокомментария является архитектоническим принципом книги как целого. Какие же функции выполняет комментарий?
1) Автор комментирует и мысль, и слово, и молчание, стремясь показать процесс рождения того и другого из ментального и вербального неупорядоченного множества (словарного роения, выражаясь его же собственными словами) и продемонстрировать интенциональность, незавершенность, неокончательность своего текста. Ср. Уже в первой строфе я начал ощущать, что не управляю процессом; Возможно, стих был записан не таким, каким он роился в семантическом дословарном облике: там ветра, скорей всего, были тождественны золотой волне; Двоеточие, стоящее перед этими стихами, знак ошибки автора, отпасовавшего минусы речи рифме, единственному в данном тексте фильтру, ставшему на пути мутных астрально-ментальных потоков, унифицированных в то, что мы понимаем как «нашу» речь; и рифма, пожертвовав в глазах автора своей репутацией, все-таки довела его=меня до этого понимания. Речь — эволюция языка (словарного роения), но она же — инволюция молчания.
Комментарий у В. Кальпиди призван зафиксировать работу автора над стихотворением, динамику мысли, выговаривание стиха, отсюда в нем так много модальных операторов сомнения, неуверенности (возможно, видно, видимо, можно рассматривать, по-моему и под.), скобочных конструкций с вопросами: устал (воображаемый? будущий?) читатель; сосуществуют две обиды (деструктивный вариант Обиды-матери?), монада (или лестница?), фиксации собственных творческих удач (Хотя справедливости ради стоит сказать, что две фундаментальные идеи я сумел-таки ухватить), а чаще неудач (Я совершил главную тактическую ошибку: почти полностью придумав стихотворение, лишив тем самым себя возможности «обратной связи»; топорной работы образ, который я менять не стал; невразумительно выраженная мысль; отчаянная, но безуспешная попытка изящной метафорой спасти ситуацию и под.). Те же поиски адекватного воплощения смысла в вербальной форме воплощает авторский знак Кальпиди – знак равенства: его=меня, фантомы=духи, понимаема=принимаема им, заканчивается=застревает восхождение человека, содержание=движитель всего текста и под.
2) Комментарий отражает динамику отношения Автора и его творения. Для Кальпиди это отношение двух самостоятельных сущностей: стихотворение вынырнуло из до-проявленности; возникла вибрация, которую я…перевел в первую фразу; это стихотворение недолго сидело в засаде; оказалось, что первый текст умер и под. Стих записывается, оформляется, переводится во фразы, при этом возможны некоторые потери смысла: Возможно, стих был записан не таким, каким он роился в семантическом дословарном облике; возникла вибрация, которую я очень быстро…перевел в первую фразу и под.
3) Комментарий обнажает структуру книги и одновременно показывает ее нежесткость, самопроизвольность рождения и роста книги согласно ее собственной внутренней логике. Так, с одной стороны, мы наблюдаем стремление к четкому формальному структурированию, повторяемости одинаковых символов, симметрии – Порядку, с другой – нарушение устанавливаемой самим автором (и текстом) закономерности, демонстрацию случайности – Хаоса.
Ср. Почему заканчивают тексты? Причины три: 1) автор физически устал; 2) устал текст (происходит разрушение хронотопа); 3) устал (воображаемый? будущий?) читатель, который из нерасчлененного времени велит тексту и автору прекратить со-вибрации. (Дочитаны «Другие берега»); Можно оценить данный текст как фонетически оформленную паузу (Снег памяти Уайтхеда);
Именно комментарий раскрывает идею целостности книги, структурную и смысловую связь стихотворений: …ДОЖДЬ – это растаявший СНЕГ ПАМЯТИ УАЙТХЕДА. Во всяком случае, три первых строки «Дождя» суть попытка продолжить ошибку предыдущего текста («Дождь»); Спазм «Алсу» и последовавший за ним судорожный выдох «Правил поведения во сне» закончился выдохом «О, сада». Такова главная ось книги «Мерцание» («О. сад»). Таким образом, комментарий эксплицирует лирический сюжет книги: ее экспозицию, кульминацию, развязку, послесловие (постскриптум) – и одновременно – ее собственную логику и внутренний импульс саморазвертывания: Татарское (?) женское имя «Алсу», случайно упомянутое в частном разговоре моим визави, приказало мгновенно развернуться необычно мощному лирическому пространству «в районе сердца» (Внезапно я назвал тебя Алсу), Этим стихотворением книга была завершена, но не закончена (О.сад); Финишировал я очень неожиданно для себя, т.к. считал, что письмо будет длинным (Письмо).
Комментарий прошит проспективными и ретроспективными связями, превращающими книгу в единый сверхтекст: Два последних текста (СНЕГ… и ДОЖДЬ) не удовлетворили жажду выдоха, застрявшего где-то в узлах трахей и гланд. Сакраментальная третья попытка (см. следующий текст) не заставила себя ждать (Дождь); Эта попытка будет серьезно повторена стихотворением «О, сад!» (Снег памяти Уайтхеда); См. комментарий 5-8 к тексту «Письмо»; Помнится, я уже приводил мнение Чехова о разумности «ампутации» начала у литературного текста (Правила поведения во сне). Более того, автор осознает, что пишет именно книгу, и она дает возможности несравненно большие, чем отдельное стихотворение: В этом случае я попытался просто оборвать движение стиха, т.к. знаю, что предполагаемое мной поэтическое пространство не исерпывается этим стихотворением: передо мною – книга (Дочитаны «Другие берега»).
4) Комментарий поясняет, дополняет и углубляет интертекстуальный слой книги, реконструирует ее «поэтическую родословную», в которой присутствуют имена Мандельштама, Пастернака, Чехова, Тютчева, Грина, Ли Бо, А. Белого, Бродского и Набокова, Вергилия и Данте, кинорежиссеров и фильмов от любимого А. Тарковского и нелюбимого С. Параджанова до современного американского фильма со смутно запомнившимся названием, индийская, христианская и языческая философия представлены именами Бердяева, Лосского, Даниила Андреева, Платона, Ауробиндо и Вивекананды. В комментарии к стихотворению «Я засел в просторах адской почти равнины…» Кальпиди пишет: «…я постоянно нахожусь под влиянием многих поэтов, настолько многих, что стоит написать так: я нахожусь под влиянием всех поэтов – и это будет правдой. Но некоторых из них, тем не менее, мне хочется назвать особо: Константин Бальмонт, Андрей Вознесенский, Владислав Дрожащих, Александр Еременко, Иван Жданов, Михаил Лермонтов, Алексей Парщиков, Борис Пастернак, Ольга Седакова, Андрей Чукашин».
Жанровым прообразом «Мерцания» является роман В. Набокова «Pale fire» («Бледный пламень» или «Бледный огонь» в русских переводах, – кстати сказать, интертекстуальная отсылка к Шекспиру), в котором поэма в 999 строк написана одним «авто-ром», прокомментирована «другим», а все вместе составляет единый замысел, где автор и комментатор находятся в детективных взаимоотношениях. Есть, однако, существенное отличие книги Кальпиди от романа Набокова: у Набокова единство Автора, чьим созданием являются и Джон Шейд, и его комментатор Чарльз Кинбот, восстанавливается вне материи самого текста. «Персонажи так соотносятся с остающимся вне пределов их постижения бытием всевластного автора, как сам автор – реальный писатель и смертный человек – соотнесен с запредельным инобытием», считает В.В. Шадурский [Шадурский 2004: 11]. По мнению А. Долинина, « все произведения Набокова можно считать рациональными моделями его метафизического, иррационального универсума, где персонаж по отношению к авторскому сознанию занимает такое же положение, как человек вообще по отношению к «потусторонности» Они посвящены именно выяснению отношений между творцом и его созданием» [Долинин 1991: 13].
Иначе складываются отношения между автором и комментатором у В. Кальпиди. Автор (автор стихотворения) никогда не покидает текст комментария, вместе с тем он одновременно и субъект и объект рефлексии: в комментарии можно наблюдать постоянные переключения субъектного кода от автора к комментатору и обратно. Субъектный план автора представлен и перволичными формами (Я отдаю себе отчет, Меня всегда возбуждал вопрос, Уже в первой строфе я стал ощущать, что не управляю процессом), и вычленением из прошлого опыта того, что относится к индивидуальному, неповторимому, известному только автору. Комментатор (=автор) описывает дотекстовый процесс стихотворения и свои ощущения после появления текста: Использована домашняя заготовка; ощущение оформилось до написания текста; Фиксация идущего во мне процесса осмысления человека; Сейчас мне не припомнить того «знания», лжесвидетелем которого вы-ступают 25-28 стихи; Уже в первой строфе я стал ощущать, что не управляю процессом; Вот все, что мне удалось вынести положительного из того удушающего чувства «духовного потолка», испытанного мною при записи текста, комментарии к которому, слава богу, окончены.
Только автор может вспомнить, откуда, выражаясь его же словами, прилетела та или иная строчка или по чьей протекции появилось выражение: Птица прилетела из стихотворения «…тем не менее я когда-то», опубликованного в сборнике «Стихотворения» (Пермь, 1993, стр. 67); Образ спровоцирован эффектными кадрами из американского фильма, который, кажется, назывался «Дорогая, я уменьшил детей»; Картинка, видимо, спровоцирована кадрами из фильмов Тарковского (стол, предметы для натюрморта, дождь), несмотря на по-мандельштамовски ослепший мед; Возможна протекция со стороны рассказа А. Грина о мальчике, наблюдавшем впервые закат солнца и сказавшем фразу типа: «Не бойтесь, оно вернется» и под.
Таким образом, предметом комментирования является не только (а может быть, и не столько) сам текст, но и содержание сознания Автора. Комментатор для Кальпиди – всего лишь другая, рефлектирующая ипостась Автора, он никогда не забывает об этом тождестве: моя=автора капитуляция; рифма, пожертвовав в глазах автора своей репутацией, все-таки довела его=меня до этого понимания; даже сам автор=я, по совести, настроен против себя; твоих и моих (автора) трактовок.
5) В коммуникативную рамку книги Кальпиди включен также ее адресат – читатель, к которому время от времени напрямую обращается комментатор, причем обращение к читателю меняет соотношение стихотворного и прозаического текста, переводя комментарий в такой же объект рефлексии читателя, как и стихи: Главная тайна поэзии на земле — это тайна Читателя, а не Текста. Текст — пустая оболочка. После того, как ее оставил автор, она физически начинает искать Читателя. Высокомерие художника по отношению к Читателю — просто амбиция, ибо художник — это просто «порченый читатель», изредка исполняющий ритуальный танец метафизического кривляния под на-званием «творчество». <> Не мы читаем книгу, а Книга читает нас, у Нее даже есть Имя.
«Произведенное — всегда поражение, процесс сам по себе — уже победа» – вот суть философии Кальпиди, и комментарий призван продлить жизнь произведения, преодолеть статичность готового результата, демонстрируя становление и декларируя невозможность закончить мысль.
7) Рождение комментария, по Кальпиди, имеет свои закономерности: в состоянии эмоционального потрясения, например, отстраненная позиция наблюдателя невозможна. Комментарий к стихотворению «Мартовские строфы» оборван в самом начале: из 16 секстин прокомментированы только три. Прозаическую часть завершает фрагмент, данный после знака пробела, по форме разрывающий связь с предшествующим комментарием, но по сути связанный с развиваемой в стихотворении темой бренности земного бытия чело-века (и не ведает он, что желанна// смерть, а пагубно исчезновенье;// что земное не жизнь, а мембрана// между нами и…нами, не звенья // мы, а смело вплетенная струйка // влаги в общее кровотеченье). Текст комментария таков: Три дня назад я узнал о трагической гибели отца. Теперь я нахожусь в несколько ином состоянии ощущений границ своего бытия, и делать вид, что жанр комментариев меня интересует хоть в какой-то степени по-прежнему, я не могу. Самодостаточней, на мой взгляд, будет прервать комментарии к этому тексту и не начинать их к двум оставшимся. Не очень хотелось бы, чтобы именно отсутствие «законченности» книги «Мерцание» стало знаком памяти моему несчастному папе, но, видимо, именно так выходит, и ничего с этим не поделаешь.
В результате комментарий из вспомогательного текста, подчиненного основному, стихотворному, превращается в важнейший компонент нового – прозиметрического – целого и реализует свой семантический потенциал, обнаруживая неединственность «жесткой» стихотворной копии. Книгу Кальпиди, как отмечает Дм. Бавильский, «можно читать разными способами. Можно – одни стихи, можно – совершенно самодостаточные комментарии. Можно – все вместе» [Бавильский // http://yuryatin.psu.ru]. Однако представляется, что эти возможности не более чем иллюзия, очередная мистификация автора.
Истинный – мерцающий, ускользающий – смысл книги рождается лишь «из равновесья диких сил», из со-противоположения стиха и прозы, иррационального и рационального, факта и рефлексии над ним, в стихотворном тексте те же вопросы, сомнения, поиски слова, скобки, автокомментарий: Мне невмоготу (а, может, вмоготу, да я не знаю); И с кровель свет стекает проливной (простим меня за преувеличенье); Но только говори: / «Орфей мисте…/ («рию» не уместилось – и не страшно).
Взаимоотношения стиха и прозаического комментария меняются в зависимости от точки зрения. Для автора, симультанные на этапе замысла, комментарий и текст создаются и выстраиваются в линейной, строго определенной иерархии при записи и публикации: комментарий всегда пост-текст, после-текст. Однако мысль читателя, воспринимающего стихи с комментариями, нелинейна: она движется от стихотворения к комментарию и обратно, преодолевая линейность графического облика произведения. В результате сформированные при первом чтении стиха смыслы теряют определенность, сдвигаются, обогащаются новыми коннотациями. А это, на наш взгляд, и есть смысловая доминанта книги, задаваемая заглавием.
Заглавие книги «Мерцание» вводит читателя в странный и зыбкий мир, в котором значимо понятие границы, пребывание «на грани», «из света в сумрак переход», как сказал другой поэт. Мерцание присутствует уже в первом стихотворении и непосредственно (мерцает март за рамою: весны/ сквожение), и в виде скрытых семантических компонентов ‘колебание’, ‘пульсация’, ‘прерывистость’, ‘слабое свечение’. В мире Кальпиди снег обычно рыхлый, тающий, кружащийся, если идущий (реализация стертой метафоры!), то к невидимому и ничего не знающий о цели. В этом мире нет определенности: кроме видимой стороны присутствует изнанка истин прописных, а тьма воскресает, добывая свет с изнанки ночи, рядом с предметом живет его тень (то молоком, то тенью молока, то просто байкой о молочной тени…), это мир, где все трепещет, вибрирует, «апокалиптически сдвигается со своих осей» (В. Абашев). В мире Кальпиди все явления таят в себе свою противоположность: человек «принципиально не-единое существо, бегущее сразу в две противоположные стороны: в сторону неба и в сторону Земли», «существует Свет=Свет и Свет=перевоспитанная Тьма» (комментарий к первому стихотворению).
Поэтическое пространство и время у Кальпиди – это отрицание времени и пространства в обычном смысле: «Хронотоп поэзии – постоянно разрушающееся единство времени и пространства»; «Поэт=автор, то ли подражая Богу, то ли пародируя Его, не перемещается по поэтическому пространству из А в Б, а потом в С, а одновременно присутствует и в А, и в Б, и в С…, таким образом преодолевая в обоих смыслах пространство как таковое». «В самом поэтическом тексте времени нет…Стихи состоят из мигов». Время же на поверку – вторичное чувство и, как всякое чувство, проходит. Во времени важны временные щели, которые можно раздвинуть и уйти в иную реальность. Возможно, поэтому лирический герой постоянно соскальзывает в пространство сна, где все границы смещены или вовсе стерты, где царят тишина и молчание.
Известно, что целостность книги, кроме заглавия, создают сильные позиции начала и конца. Первое стихотворение, открывающее книгу, – «Дочитаны «Другие берега», а вот которое считать последним? Кальпиди и здесь верен себе, он предпочитает точке многоточие и дает несколько вариантов развития действия, каждый из которых не претендует на окончательность, – своего рода «сад расходящихся тропок». Есть последнее стихотворение с комментарием — «Мартовские строфы», есть стихотворение, завершающее «основную часть» книги, после которого следует POST SCRIPTUM, – «Как водомерка на пруду», есть стихотворение «О, сад», в комментарии к которому сказано: «Этим стихотворением книга была завершена, но не закончена», являющее, по-видимому, некий содержательный итог предшествующих размышлений. Наконец, есть стихотворение, формально заканчивающее книгу, помещенное на ее последней странице, – «Вдоль снега».
Если сравнивать начало и конец книги как артефакта, ее первую и последнюю страницы, то можно заметить, что их объединяют лейтмотивные смыслы, заданные заглавием: граница (дня и ночи, мрака и света), переход из одного состояния в другое, смерть, пространство и время, тайна, движение без цели, по сути отрицающее саму идею движения, сон, мерцание, сквожение, вращение. Неопределенность, мерцание смысла – квинтэссенция и лингвистической философии Кальпиди: в его поэтической системе слова имеют «колеблющиеся» значения. Если в первом стихотворении изображено реальное пространство дома, ночник, который все еще горит во второй половине ночи, часы, громко отсчитывающие время, есть кухня и кран с водой, а за окном светает, и видны мусор, дерево и качели, то пространство заключительного текста символично. Это мир, куда плывет земля и мы вместе с нею, переходя из белого вращения в другое,/ где мы с тобою будем видеть сны./ покуда сны нас сами не заметят / и не заставят возле тишины/ на тишину молчанием ответить. Сон, который так и не приходит к герою первого стихотворения, превращается в сны, которые нас сами не заметят финального текста, а тишина объятого сном дома – в молчание-ответ на тишину. Реальная девочка-дочь, которую вспоминает автор в первом стихе, трансформируется в финале в девочку с косою (вновь игра на омонимической семантике!), изображающую смерть: с косою девочка изображает смерть.
Таким образом, система «первое-последнее стихотворение книги» выполняет по сути ту же функцию, что и система «стихотворение – прозаический комментарий»: повторение-смещение, возвращение к предмету описания, для того чтобы представить его в совершенно неожиданном, даже противоположном первоначальному ракурсе, позволяющее достичь стереоскопичности смысла, ощущения динамики, сиюминутного – и каждый раз нового и разного для каждого читателя – рождения истины. Если архитектонический стрежень книги – соотношение стиха и комментария, то ее семантическая доминанта – мерцание смысла, которое проспективно задается заглавием.
А теперь попытаемся дать ответ на вопрос, заданный в самом начале статьи: что же дает Виталию Кальпиди форма книги? Обратимся к этимологии слова книга, ведь известно, что этимология нередко улавливает «внутреннюю форму», самую суть, душу предмета. По данным М. Фасмера, первоисточник этого слова искали на Востоке и связывали с китайским «свиток». Возводили его и к ассирийскому «печать», «что-либо запечатанное», и к древнескандинавскому «познание, учение». Таким образом, этимологически книга – это и вещественная, материальная данность, свершенность и завершенность (печать), и идеальная, духовная неопределенность (не-до-конца-определенность в феноменологическом смысле), тайна (запечатанное), которую пытается разгадать читатель, бесконечно развертывающийся свиток, процесс (познание) и результат (учение) одновременно.
Получается, что именно Книга – идеальная форма для отражения становления, динамики, поиска колеблющегося, ускользающего смысла, она позволяет автору ввести в этот процесс разные семиотические компоненты (изобразительный, звуковой, вербаль-ный, даже перцептивный – вспомним хотя бы название одной из книг «Запахи стыда» или постоянную актуализацию сенсорного компонента семантики слов), по-разному взаимодействующие друг с другом и умножающие интерпретативный потенциал книги в целом.
В теории синергетики есть понятие самодостраивание, применяемое в основном к процессу креативного мышления. Самодостраиванием называют способность творческо-го мышления интегрировать целое из фрагментов, восполняя недостающие звенья, как бы перебрасывая мостики между ними. При этом происходит не просто объединение целого из частей, но самовырастание целого в результате самоусложнения этих частей. “Сам поток мыслей и образов в силу своих собственных потенций усложняется и спонтанно выстраивает себя” [Князева, Курдюмов 1994: 117]. По-видимому, именно эти процессы свершаются в книге стихов: дополнительная упорядоченность и дополнительные ограничения, налагаемые на поэтическую материю, приводят ее в движение, запускают механизм смыслообразования в границах нового целого. Так происходит самоорганизация и становление Книги. Все это позволяет говорить о КНИГЕ СТИХОВ как форме реализации целостной нравственной позиции автора, способе сделать модель мира поэта умопостигаемой для читателей. Думается, именно эти возможности Книги привлекают Виталия Кальпиди, как привлекали ранее другого великого поэта, чье имя постоянно возникает на страницах стихотворений Кальпиди и нередко появляется в разговоре о нем: «Если мерить поэтов, как двигатели, то после смерти нобелиата Иосифа вряд ли кто из текущих стихотворцев может по мощности сравниться с Кальпиди». (В. Курицын)
Литература
Абашев В. Заресничная страна / Новый мир, 1998, №5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1998/5/rec03.html
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989.
Бавильский Д. «Бледный пламень». Виталий Кальпиди. Мерцание. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://yuryatin.psu.ru
Долинин А. А. После Сирина // Набоков В. В. Романы: Истинная жизнь Себастьяна Найта; Пнин; Просвечивающие предметы. М., 1991.
Князева Е.Н. Курдюмов С.П. Интуиция как самодостраивание // Вопр. философии. М., 1994, №2.
М. Липовецкий. Русский постмодернизм. (Очерки исторической поэтики). — Екатерин-бург, 1997. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zipsites.ru/books/lipovecky_russ_post_modern_lit/
Тхоржевский В. Кальпиди как зеркало… [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://abursh.sytes.net/abursh_page/Kalpidi/Thor_oVK.asp
Шадурский В. В. Интертекст русской классики в прозе Владимира Набокова. Великий Новгород, 2004.
Опубликовано: Авторское книготворчество в поэзии: материалы Международной научно-практической конференции (Омск-Челябинск, 19-22 марта 2008 г): в 2 ч./ отв.ред. О.В. Мирошникова.–Омск: «Изда-тельско-полиграфический центр «Сфера», 2008.–Ч.2. С.91-103.
Фотография сайта ОГУ