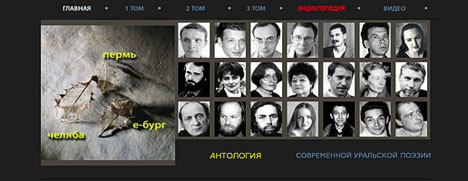Интервью с Юрием Казариным Елены Азановой в Культур-мультур.
Интервью с Юрием Казариным Елены Азановой в Культур-мультур.
Плакать и петь
21 октября 2014
Нам, журналистам, редко выпадает удача – встретиться и поговорить с человеком о главном. Не брать интервью, не беседовать о том, что интересно другим, а тихо говорить о том, что по-настоящему важно и сокровенно для тебя. Мне судьба такое счастье подарила: на мои вопросы ответил поэт Юрий Казарин.
– Юрий Викторович, я давно хотела с вами поговорить и рада, что нашелся повод – недавно вы стали лауреатом Волошинской премии. Как, кстати, вы относитесь к премиям, наградам, званиям?
– Да никак. Мне кажется, это вещи, не относящиеся к искусству – к музыке и поэзии. Есть социальная сфера искусства, где есть зрители, слушатели, издатели, премии даватели, государство. Но есть онтологическая, бытийная, духовная сфера, где такие термины, как «успешность», вообще не работают.
– У вас много социальных статусов: профессор УрФУ, лингвист, преподаватель, редактор журнала «Урал»… Как бы вы сами определили, кто такой Юрий Казарин?
– Я бы себя назвал безумцем. Только безумец одновременно занимается текстотворчеством и изучает словесность. Когда-то давно мне казалось, что я двигаюсь в разные стороны, и в какой-то момент можно разорваться, но я ошибался. Прошли годы, десятилетия, и оказалось, что линии движения не прямые. Это дуги, которые сейчас, когда мне за 50 лет, соединились, и получился круг, некая сфера. Оказалось, что ты занимался одним и тем же: писать текст или изучать его – разницы нет. Исследователь же любит этот текст, раз он его исследует, а значит, он участвует в авторстве. Ученые – вторичные авторы текста, потому они знают его не хуже автора.
– Когда вы поняли, что будете писать?
– Мне было года 4, когда в детский сад пришли какие-то люди и спросили у меня: «Кем ты хочешь стать?». «Писателем», – ответил я. Потом, когда в 89 году я вступил в Союз писателей СССР, я понял, что это была не мечта, а какое-то желание. Писатель – это не то, что мы думаем. Это не корочки.
Сейчас уже мечта другая – написать такие стихи, такой текст, от которого человек заплачет, станет светлее, добрее. Потому что век очень злой. Собственно, в 4 года я об этом и говорил, просто я тогда не мог так, как сегодня, выражать свои мысли.
– Знаете, когда я читаю ваши стихи, я вспоминаю чувство, оно из детства, когда горько-горько плачешь, слезы кончаются, и ты еще горестно, но уже облегченно выдыхаешь. В этот момент ты совсем беззащитный, голенький, словно только родился. Мне кажется, что вы в своем творчестве как раз движетесь к такому детскому, слезами омытому смотрению на мир, к белому чистому листу. Я хочу у вас спросить, с такой тонкой кожей можно жить?
– Был такой немецкий поэт Фридрих Гельдерлин, он – современник Шиллера, Гете, Пушкина. Он все время задавался вопросом, для чего мы все это делаем – пишем, пишем. Потом Мартин Хайдеггер, уже наш с вами современник, написал статью «Петь – для чего». А потом один очень хороший поэт Иосиф Бродский сказал, что «стихи существуют для того, чтобы плакать и петь». Это очень точно сказано. Не говорить что-то, не рассказывать, не убеждать в чем-то, не делать мир лучше – поэзия вообще никому ничего не должна так же, как и музыка. Ты слушаешь музыку и понимаешь, что ты – существо божественное, даже если ты – бомж, убийца. Когда ты слушаешь Корелли, Баха, Гайдна, Вивальди, преображение и происходит. Это и есть – «плакать и петь».
Я разные стихи писал. Но они всегда были нацелены на то, чтобы, как вы правильно сказали, прийти к чистому листу, на котором будет напечатано несколько слов, самых главных.
Мне вообще кажется, что стихотворец (поэт – это все-таки скорее посмертное прозвище) может создать какой-то нормальный текст, только когда он станет стихией. А он начинает писать о любви, о городах, о разлуках, о поездах и почему-то не задумывается, что в основе всего этого лежит просто-напросто жизнь и смерть, бытие и небытие. Стихии: огонь, вода, воздух, земля, и пятой стихией можете назвать любовь. Любовь – это и жизнь, и смерть одновременно. Я очень боюсь любить, потому что у меня сил слишком мало осталось.
Для начала ты должен познать эти стихии. Сегодня практически нельзя найти стихотворения про дерево, где дерево было бы деревом, река – рекой, дождь – дождем. Дождь – это почему-то всегда какие-то слезы неба. Да не слезы это, а просто дождь! Поэт восстанавливает мир, возвращает его – мы его забыли, забили его атрибутами современной цивилизации. Мы уже и по земле-то не ходим. Везде плитка, асфальт, бетон. Земли нигде нет! Поэтому я и живу в деревне, потому что там земля есть.
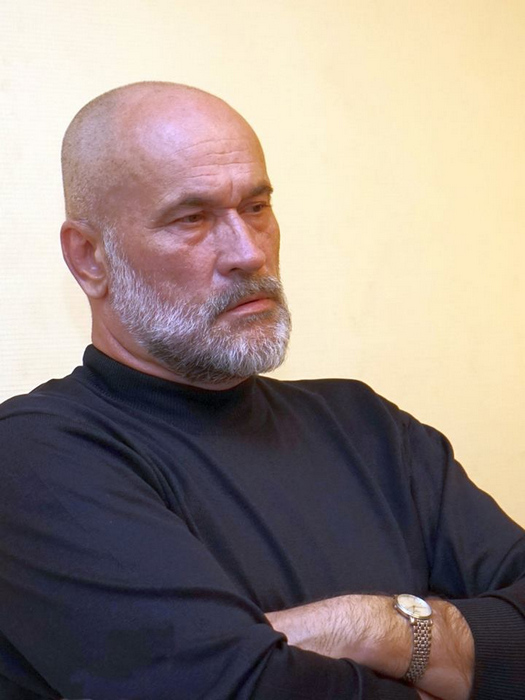
– У меня в первый раз возникло желание поговорить с вами после того, как я прочитала ваш сборник «Культура поэзии». Там есть эссе «О слабости писателя», в котором вы пишете о моем любимом писателе Юрии Казакове. Его очень волновала тема невыразимого в творчестве. Насколько важно, можно и нужно до конца себя (и прошедшую через тебя стихию) выражать?
– Это, может быть, самый лучший и самый страшный вопрос. И проблема, которая существует в любом первичном искусстве. Впервые в русской философии, в художественной, религиозной мысли об этом заговорил Василий Андреевич Жуковский.
Невыразимое – то, что мы видим, слышим, обоняем. Интуитивно, душевно. Это ускользает всегда так же, как ускользает жизнь, и превращается в смерть. Конечно, выразить это невыразимое – главная задача любого художника. Мне кажется, я как раз в этом русле работаю.
И я всегда обращаюсь к Библии, хотя вообще не библиовед и не библиолюб. В Книге бытия написано, что Бог первым создал растение. Для меня до сих пор загадка: растение – оно живое или неживое? Оно чувствует, понимает? При этом я знаю, что растение чувствует и понимает. У меня сад есть. И в нем рябинка молодая умирала – я принес ее из леса, специально в плохом месте ее выкопал. Я знал, что она погибнет. Просидел с ней ночь, держал ее за ствол и говорил: «Не умирай». И с тех пор я к ней каждый день прикасаюсь – она меня понимает, потому что у нас с ней связь капитальная. Когда я выхожу на крыльцо (это могут подтвердить все, кто у меня в Каменке бывал), она медленно поворачивает листья ко мне. Она меня чувствует. Это и есть невыразимое.
В мире много загадок, много непонятного: бог, ангелы, душа твоя, в конце концов. И какая связь есть между богом, ангелом и моей душой? Она же есть! Я знаю, что она есть, я ее ощущаю, но она невыразима. Религия меня не удовлетворяет, потому что она все объясняет мифологически, а миф – это то, что появляется после смерти. Невыразимое – самое главное. Вот ради этого и живешь. Ради этого и пишешь. Может быть, это пафосно звучит, но на самом деле так оно и есть.
Ты не выражаешь себя, ты познаешь себя. Нельзя познать мир, бога, не познав себя. Поэт показывает всем, какой он ужасный. В этом самый кайф! Потому что поэт берет на себя функцию какого-то высшего существа. Я не эзотерик, но функции какие-то божественные.
– Недавно в Театре драмы состоялась премьера спектакля «Fake, или Невероятные приключения Бориса Моржова в провинции», литературной основой которого является роман Алексея Иванова «Блуда и МУДО». Меня зацепили размышления писателя о том, что есть подлинное в жизни, а что есть подмены, фейки, симулякры. По его мысли, все вокруг – подмена, а подлинное – Демиург, человек, который творит реальность. Представим две чаши весов, на одной – подлинное, на другой – подмены. Что вы положили бы на эти чаши?
– Я понял, что только жизнь, любовь и смерть – подлинное, остальное – нет. Чувства наши, как сказал Тютчев, мы, к сожалению, не можем выразить до конца. Мы можем только молчанием себя выражать. Остальное надумано, придумано и артефактуально – декорации. Может быть, я ошибаюсь, но для меня это так. Люди страдают, переживают, но ведь каждый страдает в одиночку. Подлинное чувство, на мой взгляд, это страдание. А радость – не знаю… Потому что радость разной может быть. Ну, получил гонорар какой-то, получку больше дали – радуешься. Это счастье, что ли? «На свете счастья нет»…
Есть две чаши. На одну мы кладем неподлинное, на вторую – ну, что, подлинное сюда не уместится! Как? Если мы его назвать не можем, как уж его поднять, скомпоновать, положить? Просто невозможно.
Иванов упрощает все немножко. Он – все-таки писатель-бизнесмен. Первые вещи у него еще были талантливыми, потом пошла уже прагматика: заработать деньги, стать известным. Поэтому Иванов volens nolens повторяет те фейки, те информационные уродливые фигуры, которые существуют в действительности.
Современное искусство – это искусство надстроечное, вторичное, третичное, черт его знает, какое. Бродский ненавидел словосочетание «современное искусство». И правильно.

– Давайте поговорим об отношениях учитель – ученик. Что они значат для вас? Где заканчивается учитель и начинается ученик? В этих отношениях, как и в любых других, люди забывают, предают, уходят. Как вы это переживаете? И главный вопрос, наверное, во имя чего вы выбрали путь учителя?
– Я начну с конца. Это инстинкт. Ты когда-то кем-то был обучаем или брал пример с кого-то. Это есть инстинкт культуры, я бы сказал. Что такое культура? Это и есть традиция, память, когда один человек делает то, чему он научился у другого.
В литературе есть учителя и ученики, а в поэзии – нет. В поэзии все одновременно являются и учителями, и учениками. Почему? Потому что литература – ремесло, мастерство. Там нужно учиться композиции, жанру, как делается экшн, как монологи-диалоги выстраиваются. В поэзии и в хорошей музыке отношения учитель-ученик – мобильно-ролевые. Мой «учитель» – Майя Никулина, но мы иногда менялись местами. Однажды, мне было, может быть, лет 25, мы с ней шли по улице, и я ей сказал: «Майя, я так тебе благодарен!». И она мне ответила: «Юрочка, это я тебе благодарна, ты меня многому научил». Я ее не понял тогда, а потом, прожив пару десятилетий, я понял, что да, ты сам учишься у своих учеников.
Что касается преподавания, тут совсем другое дело. Во-первых, у меня со студентами отношения равных людей. Я не считаю их глупенькими, необразованными. Просто это молодые люди, а я уже нет. Я у них учусь гораздо больше, чем они у меня – это точно. Мои теоретические, методологические идеи приходят мне в голову на лекциях, лабораторных занятиях со студентами. Я потом пишу свои книги благодаря им. Если бы не было обратной связи, я б не видел, несу я чушь собачью или говорю какие-то здравые мысли. Я бы не написал столько монографий, очерков, книг.
Студенты учат меня силе, молодости, жизни. В прошлые века люди жили всего лет до 45-и, потому что они новой жизни не принимали. У Данте есть такое произведение «Новая жизнь», в котором он сказал, что мы всегда противимся новому, боремся с новым, а почему бы однажды не остановиться и не посмотреть на это новое? Может быть, оно ничего? Может быть, оно лучше того, что было? Если ты не будешь учиться – все, ты пропал. И ты будешь ноль для студента.
В литературе – примерно так же. А в поэзии – нет. Для меня учителя: Баратынский, Жуковский, Пушкин, Мандельштам. Они живы для меня. В этом, возможно, и заключается безумие стихотворцев. Они могут не верить в загробную жизнь, но они общаются с мертвецами.
Я писал книгу «Последнее стихотворение» (это антология последних стихов разных поэтов), и, когда Пушкин был смертельно ранен на дуэли, я выходил на балкон, курил, слезы вытирал, потому что этот процесс был для меня сейчас. (В тот год, кстати, умер Боря Рыжий).
Что это такое? Это не эзотерика. Это как раз то невыразимое, сфера, где все живы. Русская поэзия – это купол добра. Если он разрушится, то все полетит к чертовой матери. Ничто нас не спасет.
О невыразимом если говорить, есть такой французский структуралист Мишель Фуко, философ языка. Он выделяет такое состояние, которое называет трансгрессией – когда художник, все написав уже в этой жизни, все поняв и создав, движется дальше (вертикально, горизонтально или в сторону), но он уходит из жизни и оказывается в пустоте. И начинает из пустоты, из ничего творить нечто. Все крупные художники доходят до этой черты. Кто-то остается здесь, кто-то заглядывает туда, за черту, кто-то шаг делает, а кто-то идет дальше. Дальше пошли, безусловно, Данте, Тютчев, Пушкин, Мандельштам, Ахматова. А Цветаева боялась – психовала, нервничала: «Что там? Что там?».
– Мы не поговорили о предательстве.
– Да, но это все социальные вещи. Я никогда в жизни никого не предавал, тьфу-тьфу-тьфу (стучит по столу). Нет, может, невольно это происходило в отношениях с женщинами. А у меня были случаи, два-три человека, когда я заваливал книгами, создавал им библиотеки, чтобы они читали, учились, писали свои стишки. Потом они – пумс, ну, что называется «предавали». Последний такой случай был в 2010 году. Я написал «Каменские элегии» после этого.
Бродский говорил, у поляков есть выражение «Подложиться под трагедию». Я продолжаю его мысль: можно уйти в сторону, и трагедия пройдет мимо, можно встать – и она тебя сомнет и убьет, в пыль тебя разнесет к чертовой матери. А поэт все-таки должен поступать по-другому – он должен идти навстречу трагедии. Пройти сквозь нее. Пройдешь, разрежешь ее – значит, ты станешь новым, как Феникс, более сильным. Как говорят в спецназе, то, что нас не убило, то делает нас сильнее. Как мне кажется, я тогда прошел сквозь трагедию. Конечно, с потерями, с инфарктом. Но прошел.
Предательство ведь может быть и невольным. Человек просто стал взрослым и может унизить своего учителя, которого уже не считает учителем. Почему это происходит? Это просто несовпадение. Учитель думает, мы с тобой в поэзии друг друга учим. А ученик думает, что мы с тобой в литературе: ты меня всему научил и пошел нафиг, я теперь тоже кого-нибудь научу и богу отплачу этим.
Баратынского опубликовали только через 50 лет после его смерти. Евгений Абрамович Баратынский. Гений. И ничего. Это поэзия. Ей пофиг, там нет времени в нашем понимании. Потому что поэзия – сама время, то же время, но другое вещество. И музыка тоже. Я всегда поэзию и музыку рядом ставлю, потому что эти вещи очень похожи.

– Какие композиторы вам близки по ритму, по духу?
– Из русских это, конечно, Чайковский, фрагменты из его балетов, концертов. Это Рахманинов – без него меня не было бы в том виде, в каком я есть. Отчасти это Прокофьев. Отчасти, потому что он немножко странный, формальный. А из мировой музыки это, конечно, все итальянцы, те, которых называют барочными: Корелли, Марчелло, Альбинони, Вивальди.
Немцы не все. Гайдн только, потому что он непредсказуем совершенно – эвристичность очень большая. Баха слушаешь и знаешь, что будет дальше. Он какой-то слишком рациональный. Хотя офигенный композитор, ничего не говорю.
– У многих профессионалов-музыкантов есть такая «болезнь»: они автоматически в голове записывают любую музыку нотами. Та же история с людьми, которые учат иностранные языки – они словно начинают перекладывать мир на другой язык. У стихотворцев есть такая потребность – заново освоить мир, переложив его на поэтический язык?
– В поэзии так и есть. Просто поэзия, нежели литература, делает это в чудовищно концентрированных маленьких объемах. Одно стихотворение, два-три слова – и ты все понял. «На свете счастья нет, но есть покой и воля»… И не надо массы романов о том, что человек одинок, несчастен, что одинок и счастлив от этого одновременно. Все это есть в одной фразе.
Поэты просверливают мир насквозь, выходят с другой стороны и говорят: «Ааа, тут то же самое» или «А тут что-то другое».
К вопросу о подлинном. Все подлинное движется по вертикали, все неподлинное – по горизонтали. Поэтому дух захватывает, когда ты слушаешь какую-нибудь офигенную музыку. У Баха есть такие вещи, у Led Zeppelin. Это момент катарсиса, эврики. Вот оно, невыразимое: ты его видел, чувствовал, а назвать не можешь.

– Как вы, в таком случае, относитесь к Уральской школе драматургии? На первый взгляд, авторы, которые ее представляют, движутся по горизонтали.
– Начнем с того, что Уральская школа драматургии – уникальное явление. И Коляда, конечно, великий человек, потому что создал ее. То, что он сделал – просто невероятно! В этом городе – сером, некультурном, давайте будем честными. Как? Ну, вот Коля такой, очень талантливый человек. И его ученики, тот же Сигарев или Богаев – потрясающие мужики.
Дело в том, что театр – это самое социальное искусство. Оно буквально существует в жизни. (Не как поэзия, поэзия в жизни не существует, она существует в отдельно взятом поэте и в отдельно взятом читателе).
Театр – это очень интересная вещь. Вроде бы, игра. Ты приходишь, снимаешь пальто, показываешь билет, садишься – и все, ты уже попал. С тобой делают все, что хотят.
И, наверное, правильно Коляда и его многочисленные ученики делают, сочиняя такие актуальные пьесы. Я думаю, что реальный эффект от такой драматургии есть, конечно. Потому что люди видят, что происходит вокруг. Мы с вами – средний класс, живем в нормальных квартирках, в нормальных районах, у нас нормальная работа, есть компьютеры, книги. Есть же люди, которые живут как нелюди. И об этом Коля и его ученики говорят.
Я как-то сказал ему: «Напиши пьесу, как у Чехова». А он ответил: «Кому она нафиг нужна сегодня?» Это очень хороший ответ. Коляда делает актуальное, социальное искусство. И это уникально. Не только для России.
– В одной из своих статей вы сказали, что сейчас время непоступка. Почему и можно ли с этим что-то сделать?
– Ничего не сделать с этим до тех пор, пока мы будем так относиться к книге. Книга все меньше, и меньше, и меньше становится. Она совсем уже микроскопическая стала, ее никто не читает. Человек превратился в часть толпы, и я не знаю, что делать. Пока мы с вами – толпа, ничего изменить нельзя. И дальше все будет хуже – унифицированнее, типологичнее и так далее.
Мне кажется, человечество утратило чувство правильной классификации себя. С чего вдруг появились гетеросексуалы и гомосексуалы? Это не основание для классификации! Какая разница, кто ты? Это твое личное дело. Какая разница – чернокожий ты или желтокожий? Человечество заблуждается, церковь и правительство помогают заблуждаться. Для чего? Для того чтобы люди сплотились в плотную массу, в одного гигантского человека, который будет в понедельник-вторник-среду-четверг-пятницу работать, а в пятницу вечером напиваться в каком-нибудь месте, где есть entertainment.
Книга ушла. Раньше можно было общаться, выражая самое сокровенное, а не прикалываясь, как это делается в блогах, в жж, в фейсбуке. Я дал себе слово не касаться этих средств коммуникации. Иногда я какие-то письма там пишу, например, в защиту Ройзмана. Но очень редко, когда некуда деваться. Или когда помощь кому-то нужна.
… Бог нас забывает. Но Бог не фраер, он нас, наверное, все-таки вытащит за уши.
– Я однажды была на выставке московского художника Константина Худякова «Deisis. Предстояние». Огромные полотна с ликами персонажей Священного Писания и канонизированными мучениками. Удивительно то, что лики эти создавались методом фоторобота: на протяжении нескольких лет художник фотографировал на улице случайных людей, а потом из их черт собирал изображения Адама, Христа, Иуды. Вспомнила я об этом затем, чтобы попросить вас создать культурный лик Екатеринбурга. Чьи черты у него будут?
– Я, наверное, не буду оригинальным. Из художников это, конечно, Виталий Михайлович Волович, Миша Брусиловский. Из литераторов на первом месте Майя Никулина, потому что это уникальный поэт, поэт масштаба российского, но почему-то ее никто не знает в стране. Так же, как не знают Алексея Решетова. Из поэтов еще Аркадий Застырец, Евгения Изварина, из молодых – Константин Комаров, Алексей Кудряков и Костарев Саша. Очень талантливые люди. Они очень хорошо стартовали. Я их с удовольствием публикую в «Урале».
Здесь есть прекрасные музыканты. Дирижер Дмитрий Лисс. Его жена Ольга Викторова – современный композитор, она – лауреат многих премий заграничных. Есть театралы офигенные, тот же Коляда. Олег Богаев, его пьесы «Почта» и «Поле» – шедевры.
Но таких людей очень мало. Их и не должно быть много. Их и в Москве не больше – там больше разрекламированных. Мы здесь жизнью своей что-то делаем, зарабатываем свой авторитет. У нас все по-честному. И Воловичу, и Брусиловскому за 80 уже, Майе – за 70, Николаю уже за 50. Это драгоценные люди.
А с прозой у нас плохо. Зато у нас Бажов есть, Бажов – гений. У Игоря Сахновского есть вещи, действительно, настоящие и у Анатолия Новикова, у Жени Касимова.
У нас на Урале всегда плохо было с прозой. Думаю, потому что у нас интеллектуальная жизнь не такая насыщенная, не такая качественная, как в Питере или в Москве. Во всех миллионниках так плохо: в Нижнем Новгороде, Томске, Новосибирске, Красноярске. Может, это нормально, мы не знаем же. Ну, бывает, поговорить не с кем. Я поэтому в деревню уехал, потому что не с кем. С мужиками трудно говорить. Они останавливаются в какой-то момент, после сорока почти не развиваются, им кажется, что они уже все знают. Женщины более эластичные, мобильные, подвижные, но с ними трудно, потому что вмешивается биология, любовь-морковь и все такое.

– Вас это одиночество делает несчастным?
– Привык. Я вообще три года, с 2010-го, ни с кем не общался. Были точечные общения – с женщинами, понятно, в большей степени, а потом вообще остановился. Друзей очень мало осталось, и они умирают постоянно. Недавно у меня умер второй очень близкий друг в Сочи. А мой лучший друг умер в 2002 году. Но есть друзья: Женя Касимов, Женя Ройзман, Олег Богаев, Шура Субботин…
– Есть вещи, связанные со словом, с литературным творчеством, на которые вы еще не отчаялись?
– Проза. Мне так хочется писать прозу. Нет времени, нет сил. Как нет? Конечно, можно всегда и время найти, и силы.
Я хочу написать книгу о человеке, который может общаться с любым предметом – со столом, с табуретом, со стулом, не знаю, с забором, с птицами, собаками, кошками… То есть о себе. Меня очень любят кошки – как только меня видят, сразу подходят. Это у меня от деда, он был кузнецом. Вообще он – дворянин, но революция все поковеркала, разрушила. Он был кузнецом и мог управлять лошадьми взглядом. Я учился у него.
Я же в детстве совсем не мог говорить, заикался сильно, ни с кем не общался. Поэтому я думал-думал, и мои думы каким-то образом распространялись на предметы, и мне казалось, что они мне отвечают. Это не шизофрения, это, по-моему, нормальное состояние. Пантеистическое.
Вот такую книжку я хотел бы написать. У меня даже есть план. Но надо, чтобы меня год никто не трогал, потому что книга – это труба-дело. Прозу писать труднее, чем стихи. Стихи сами пишутся: откуда-то приходят, а ты просто записываешь и все.
– Мне кажется, это будет очень хорошая книга. А у вас не было ощущения, что вы – во сне, очнетесь – и настоящая жизнь начнется?
– Иллюзия всегда у меня такая есть. Сызмальства мне казалось, что весь мир создан для того, чтобы я в нем что-то делал. А сейчас мне кажется, что я уже давно умер, и моя душа попросила у бога: «Ты сделай какую-то декорацию для него, чтобы он не сильно расстраивался, пусть он еще поживет».
Такие иллюзии есть всегда. Это нормально. Как сказал как-то Саша Перцев, декан философского факультета, нет никакой реальной действительности. Черт побери, Саша прав! У каждого художника, наверное, есть внутри своя художественная картина мира, и всю жизнь он силится эту картину совместить с реальной картиной мира. Но что такое реальная картина мира и чем она отличается от художественной, никто не знает! Поэтому люди амбициозные, ленивые, писатели-бизнесмены просто копируют то, что есть сегодня в социальной «реальной» действительности. Им лень вытаскивать из себя ту картину мира, которую в них вложил Господь. Он же в нас вкладывает какую-то идеальную реальность, и поэтому мы постоянно разочаровываемся – в себе, в людях, в событиях, в государстве родном. Это трудная психологическая проблема.
Была у меня книга «Побег» – очень болезненная, очень отстраненная. Главное там слово – пустота. Я теперь понимаю, что я тогда впадал в состояние трансгрессии. Я уже ушел тогда, поэтому мне и кажется, что я уже умер. И вот, когда эта книга вышла, мне позвонил Женя Касимов и сказал: «Юрка, дальше ты уже можешь писать только нотами». Потом то же самое сказали еще несколько человек. И те же термины употребляли. Зачем тебе буквы? Пиши нотами.
Поэзия – это результат некоего поэтического состояния меня, тебя, леса, страны. Это чудо. Это опять невыразимое. Поэзия – это связь всего со всем, и всего со всеми, и всех-всех-всех с Ним. Это связь.
Оригинал интервью http://kulturmultur.com/interview/Plakat_i_pet_21_10_2014/