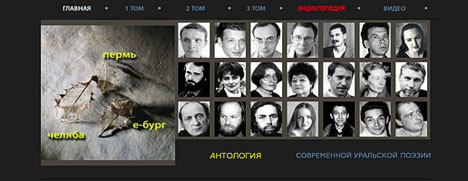Сергей Ивкин. Фото Библио-Глобус
Поэты и критики о творчестве Сергея Ивкина:
Андрей Санников
Послесловие
(Ивкин С.В.. Пересечение собачьего парка. Стихи. Екатеринбург – Издательство Уральского университета – Нижний Тагил, Издательство «Союз», 2007 г. – 60 стр.)
Когда однажды осенью Ивкину в голову ударила молния, он стал писать другие стихотворения – массивнее и внимательней, каждое из которых – как подвиг.
По-настоящему, эта его книга – первая. Если раньше он ел литературу и изо рта у него пахло бумагой и принтером, его «Парк» – честен, максимально честен, и написан не для читателя, а для себя, т. е. себе. А только так и нужно писать.
У меня есть чувство благодарности и радости Серёже за эту книгу. То, что я стал её составителем и (отчасти) издателем – делает мне честь.
Евгения Изварина
«Ты приходишь в себя…»
(журнал «Урал», 2007 №11)
Сергей Ивкин. Пересечение собачьего парка. — Екатеринбург—Н. Тагил: Изд-во Уральского университета, Объединение “Союз”, 2007. — (“Подземный дирижабль”)
Любая книга — будем сейчас говорить об изданиях, сохраняющих за собой право на обдуманное и прочувствованное высказывание — любая книга есть поступок. В таком случае, первая книга — решительный шаг, переход в новое качество, независимо от того, ждёт ли её бурный успех и широкая популярность. Не в том дело: сам автор становится в этот момент другим человеком, по-иному видит себя и слышит своё слово. Важно поэтому понять, что стало отправной точкой этого перехода, то есть лежит ли в основе книги конкретная идея, и если да, то какая?
Думаю, “книжка-малышка” в 57 страниц изящного (если не сказать — субтильного) формата, вместившая далеко не все лучшие стихи Сергея Ивкина, — как раз и есть пример отчетливо концептуального подхода: виден не только отбор, но и подбор стихотворений, отсечение лишнего в пользу необходимого.
И всё же первая книга есть первая книга, читай: молодость есть молодость (и автор действительно — человек молодой, не столько “начинающий”, сколько “хорошо начавший”). Молодости свойственны противоречия, антиномии, парадоксы. Элемент противоречия присутствует уже в дизайне книги — на каждой странице соседствуют стандартный шрифт собственно текстов и факсимиле от руки написанных самим автором заголовков и колонтитулов: машинное и человеческое, “живое” и “неживое”, а также технически выверенное — и вдохновенно импровизационное…
Не “за кадром”, а на глазах читателя идёт поиск языка, поиск интонации. У Ивкина цель этого поиска и вообще предназначение всех поэтических средств — не выражение своей индивидуальности, а как можно более точное воспроизведение во всей многогранности материальных, культурных и духовных проявлений окружающего мира. То есть как автор он целиком обращен вовне, лучше всего чувствует себя в роли наблюдателя и рассказчика, хотя и не чурается письма от первого лица, сохраняя искренность и открытость читателю.
На четверых — бутылка коньяка.
Мы отыскали одинокий столик
в тени ветвей — возможность уника-
льная поговорить за столько
календарей исчерканных, пока
стаканчики целуются краями,
а город нас качает на руках
и тропы осыпает воробьями —
в стихотворении “Воробьиные боги”, одном из лучших в книге, главенствует именно описание и внеэмоционально-эпическая интонация. Здесь верно взять “длинное дыхание” для элегического размышления, оставляющего, впрочем, место для метафорических прозрений:
…И летят резиденты, солдаты, жлобьё, эмигранты
на ширинки гостей, в декольте раскрасневшихся дам,
чтобы выйти в эфир: на фуршетном своем эсперанто
проповедовать, как умирается там… —
это уже из стихотворения “Свобода”, где комнатное растение каланхоэ (как известно, “живородящее”, рассеивающее вокруг свои малые подобия, способные укореняться и произрастать практически на чём угодно) рождает цепь ассоциаций: порыв к свободе — эмиграция — неприхотливость — экзистенциальная бессмысленность любой перемены участи…
Язык описания (созерцания) соседствует в книге с языком ощущения (соучастия). При этом меняется ритм, перестраивается перспектива, “мир познаётся на зубок и свист”, читателя захватывает и подхватывает не логика рассуждения, а эффект физического присутствия:
непрожитый мираж зачем оно когда ты
целуешь пса в оскал и в небо во всю ширь
проносятся свистя финальные закаты
мерзавец Амадей
стреляй
дыши
ды-
ши —
в стихотворении “Красное поле” и некоторых других главенствует интуиция, музыкальная импровизация, чуткость к языку как сложному взаимодействию семантических полей. А это уже — совершенно другой путь в поэзии, нежели воспроизведение “картинок из жизни” и следование законам обыденной речи.
Очевидное стилистическое противоречие — если уместно говорить о борьбе интеллектуального и инстинктивного начал — в книге решается в пользу первого. То есть хотя бы за счёт длинных стихотворений, даже мини-поэм, преобладают живописное описание, не всегда удачные попытки философствования, влияние поэтики И. Бродского и, возможно, в связи с этим, чересчур вольное обращение с рифмой. “Навзничь” — “казни”, “ворота” — “разворота”, “текста” — “тех кто”… — такие диссонансы могла бы оправдать только действительная свобода владения стихом либо высокая эмоциональная насыщенность, в противном же случае — увы…
И всё же автор делает ставку прежде всего на стихи такого рода. Для него явно важнее не версификационное мастерство, а содержание. Конкретно — он стремится запечатлеть некий переломный момент, ощущение нового этапа жизни — расставание с отжившим и открытость неведомому. Такими размышлениями и настроениями проникнуты многие стихи, и прежде всего заглавное для книги “Пересечение собачьего парка”. Часто тут же присутствуют рассуждения о всепроникающей материи и истории языка, о жребии поэта, в широком смысле — хранителя (а может, и воителя) культуры и духовного наследия в современном мире. Одна из поэтических удач С. Ивкина — стихотворение, заключающее книгу, в котором происходит наконец синтез наблюдения и ощущения — в момент рождения чувства:
да я выжил вот в этой культуре
безымянной почти что на треть
перепало на собственной шкуре
в невозможное небо смотреть
(это темное небо отвесно)
ты приходишь в себя от тычка
в электричке становится тесно
тчк тчк тчк
“Прийти в себя” — не означает ли здесь “стать собой”, обрести себя — столько же в повседневной суете, сколько в кардинальных психологических и духовных внутренних сдвигах? На это, между прочим, уходит вся жизнь. И только поэзия, пожалуй, способна концентрировать саму материю времени в мгновения абсолютного тождества: человека — и мира, духа — и слова…
Евгения Изварина
Сергей ИВКИН. «Тебя я причастился через Слово…»
(Газета «Наука Урала» №26-27 (911), ноябрь, 2005)
«Пока идёт брожение в умах, избранник выбирается из брани» — причём так же (по крайней мере, с виду) легко и непринужденно выбирается, как легко и победительно говорит об этом Сергей Ивкин в одном из своих стихотворений. «Но кто избранник, кто?» — исступленно вопрошал несколько лет назад другой поэт, москвич Денис Новиков. Мы все, видимо, подошли сейчас к тому рубежу, когда избранник, некто действующий вне нас, но за нас — необходим. Но кто он? Поэт? Гражданин? Пророк? Отец народов? Господин Президент?
Давайте не будем гадать.
Давайте будем читать молодых поэтов, пытающихся заново приручить язык, писать жизнь как этюд, а стихи как собственную жизнь, задыхающихся «в приступе критического счастья» там, где «иллюзорны все своды правил». Хотя, подозреваю, два правила все же есть: смотреть прямо и говорить честно. Не приторговывать. Пробовать невозможные звуко- и словосочетания, чтобы выбрать единственно верное, вырастить безраздельно своё. В стихах Сергея Ивкина явственное лирическое, исповедальное начало замечательно сочетается с богатством культурных ассоциаций и философской рефлексией. Мыслям в них тесно, а чувствам просторно: старая сентенция, но вы послушайте…
Янис Грантс
Ретроспектива фильмов режиссёра Ивкина в кинотеатре «Знамя». О публикации в журнале «Знамя» (№2, 2008).
(электронный журнал «Новая реальность», 2009, №1)
1.«ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА», режиссёр Даг Лайман, 2002 г., США.
Эпизод: Мэтт Дэймон, который не помнит, что он Борн, да и вообще ни хрена не помнит, останавливает машину перед забегаловкой, желая перекусить. Удивляясь самому себе, он запоминает номера семи припаркованных тут же автомобилей, а в самой кафешке с ходу определяет пути возможного отступления, а заодно замечает, что официант – левша. Режиссёр решает поставленную задачу мастерски: кажется, что Борн делает этакие мгновенные снимки: номерА, дверь, официант. Только фотографирует герой не на аппарат, а на сетчатку глаза. Мэтт Дэймон делится со своей попутчицей – что-то типа: откуда у меня такие способности, кто же я в самом-то деле?
Теперь бы я ответил ему, не сомневаясь нисколечки: дорогой Мэтт, господин Дэймон, то есть агент Борн, короче, молодой человек, вы – Ивкин. И вот почему:
пересекаешь двор и слева солнце бьётся
наклонный снег тяжёлый и сырой
ты смотришь в небо раздаётся моцарт
(излишне быстро из 40-й)
Это же моментальные взгляды-фотографии: влево-вверх-возможно-назад. Это мгновенные характеристики: бьётся, тяжёлый и сырой, моцарт. А ещё 40-й номер – конкретнее некуда. Поднапрячься придётся и в случае с маршруткой, и в случае с квартирой. Маршрутка – резвый транспорт, а квартиру надо ещё вычислить. Я вот до сих пор не знаю, сколько квартир в моём подъезде. А тут герой ориентируется по звукам из окна. Впрочем, что это я прицепился. Может, речь о чём-то третьем. Это уже не так важно. Не так важно и то, что дальше стихотворение идёт на крутой разворот: разбор пульсации ивкинской мысли вне моего поля зрения. Отмечу лишь, что детали и детальки, эти самые моментальные кадры до последнего слова стихотворения залихватски точны и мастеровито просты.
- «ПАРИЖ, ТЕХАС», режиссёр Вим Вендерс, 1984 г., США.
Эпизод: пропавший какое-то время назад брат и отец (в смысле: одному герою ленты он брат, а другому – отец) найден и возвращён восвояси. Семья готовится к первому ужину после воссоединения. Возвращённый неохотно говорит (первые полчаса фильма он и вовсе молчал), к тому же, кажется, тронулся умом. Поэтому первый ужин – это экзамен: уживутся ли, сохранили ли родственные чувства. Да ещё и ребёнок, рождённый одним братом, а воспитанный – другим. Камера показывает не лица героев, а …ноги под столом. Одни ноги болтаются взад-вперёд (мальчишка совсем не волнуется); другие ноги, мужские, явно подхватили нервный тик (в реальной жизни мы тысячи раз видели подобное: согнутая в колене нога опирается на носок, а пятка судорожно дёргается вверх-вниз);третьи ноги, женские, просто неподвижны (но это особая – нервная – неподвижность).
Наверное, «Париж, Техас» – далеко не единственный фильм, способный проиллюстрировать ивкинскую особость. Но предпочтение отдано ему именно за сцену с ногами. Что мешало Вендерсу показать ужин «в лицах»? Ничего, кроме желания сделать сцену воссоединения незабываемой для себя и для меня. Когда все поэты вокруг упражняются в сложности, Серёжа берёт на себя смелость изъясняться понятно и просто. Понятно? Просто? Тут явный подвох. Второе прочтение напрочь отвергнет впечатление от первого, а полное погружение может вызвать непредсказуемую реакцию (какую, предположить не возьмусь, а свою описывать не буду). Это тот (редкий сегодня, между прочим) случай сложности не ради выпендрёжа, а совершенно необходимый и со всех точек зрения оправданный. Ивкин пишет широко (кругозорно): в стихах встречаются несовместимые, казалось бы, компьютерные стрелялки, сублимация, благородство. Но это ещё и чрезвычайно изящно, ведь все перечисленные здесь и не перечисленные слова-чувства и слова-термины не сталкиваются лбами, а вплетаются в ткань стиха, занимая своё (и только своё!) место.
Штыковою лопатою я нарезаю планету,
останавливаясь на некоторых вещах.
Мой железный язык переворачивает монету:
здравствуй, угольный реверс, – шафрановый
аверс, прощай.
Если я ничего не путаю, то речь в стихотворении «Дорогой огород» идёт именно о вскапывании землицы на огороде. Но Ивкин, этот Вим Вендерс от поэзии, не может обойтись простеньким описанием этого рядового события. Нет, вскапывание – это повод обратиться к Чаадаеву, передать сообщение для Чехонте, да и напомнить о судьбе Чапая. Колдуя над этим ивкинским стихотворением, можно состряпать докторскую по филологии, но можно и с ума сойти. Тут есть и «железный навес», утраченный Родиной, и «чечевица духовной свободы», и много ещё чего.
Этот особый угол зрения, особый взгляд (вы ещё помните ноги под столом?) отличает практически все стихи Сергея Ивкина. Эти, например:
Когда читает Санников «Сверловск»,
он букву «Дэ» намеренно уводит.
Мне с формой воспитания свезло –
мне показали то, как я свободен.
Чтобы связать это ускользающее у другого поэта «Дэ» со своим воспитанием, мало быть стихотворцем средней руки. (Дальше – больше: буква «Дэ» чудесным образом предстаёт перед читателем в виде дури, перешедшей к лирическому герою (или самому Сергею Ивкину?) по наследству). Это пример независимого ивкинского остроумия, которое гуляет само по себе из одного стихотворения автора в другое.
- «ГОРНЫЕ ОГНИ», режиссёр Фреди М. Мюрер, 1985 г., Швейцария.
Сюжет: в горной Швейцарии живёт-поживает совершенно уединённо семья: отец, мать, дочь лет 22 и немой сынок лет 16-ти. Полтора часа они строят, стирают, шьют. Ну, немой сынок иногда гоняет коров или сбрасывает газонокосилку с обрыва. У него мозги набекрень, что вполне простительно в его инвалидном состоянии. И вот после полуторачасовой размеренной жизни выясняется, что брат и сестра спят вместе, она беременна, отец хочет убить обоих, но в результате самострела убивает себя. Видя мёртвого мужа, мать любовничков отбрасывает лыжи. Финал: немой герой-любовник хоронит своих родителей в снегу, оставляя снаружи их лица. Он прикрывает родительские лица стеклом, получая этакий временный (до весны) мавзолей. Конец фильма: камера отъезжает от осиротевшего наполовину дома. Всё дальше и дальше. И вот ничего не видно – одни неявные огни где-то на горизонте. Как сложится жизнь героев? Почему-то не очень верится в счастье этой странной пары. Впрочем, откуда мне знать. В конце фильма стоит многоточие.
У Ивкина тоже стоит многоточие в одном из неназванных стихотворений. И опять – по-ивкински – это изящное словесное многоточие. Да и сюжет стихотвореньица, прямо скажу, тоже (как и фильм) далеко не радужный. Впрочем, и не сюжет это, а набросок. Гипсовый слепок, что ли:
да я выжил в этой культуре
безымянной почти что на треть
перепало на собственной шкуре
в невозможное небо смотреть
(это тёмное небо отвесно)
ты приходишь в себя от тычка
в электричке становится тесно
тчк тчк тчк
Вообще-то первым делом во мне родился протест (подумаешь, цаца какая: он себя считает частью русской культуры, да ещё и прошёл школу выживания – враньём попахивает, ну уж пафосом-то точно). Но потом (молниеносно) я поблагодарил автора за вторую строчку. Что он имел в виду во второй строчке, мне неведомо, а я вспомнил любимых Мандельштама и Хармса. А ещё – если бы я взялся за статейку об Ивкине сейчас, то я назвал бы её «Это тёмное небо отвесно». А лучше – «Отвесное тёмное небо». Почему? А нипочему. Потому что Валентин Катаев назвал один из своих опытов по мовизму «Алмазный мой венец». По своей прихоти, короче.
Так чем закончилась поездка в электричке? И как сложится жизнь главного героя? Надеюсь, что счастливо. А пока камера отъезжает от железнодорожных путей. Всё дальше и дальше. И вот уже ничего не видно – одни неявные огни где-то на горизонте.
- «НАСМЕШКА», режиссёр Патрис Леконт, 1996г., Франция.
О фильме: 1790-е годы. Франция. Благосклонность короля имеет тот, кто удачно пошутит, даже – раздавит другого остротой, насмешкой, игрой слов. Чем злее выпад, тем больше шансов на успех. И наоборот: проигравший словесную баталию рискует практически всем, в том числе и жизнью.
Удивительно, но при всём вышеозначенном остроумии от Сергея Ивкина вы не дождётесь ни шутки, ни остроты. Улыбнуться за чтением его стихов практически негде. А это означает одно: Бастилию.
И пока герой моего повествования становится в очередь на плаху, я выражу благодарность своему дневнику за выходные данные упомянутых фильмов. Добавлю лишь, что сами фильмы я не пересматривал. Как запомнились, так и запомнились. Так что если мной и искажены какие-то сцены или сюжетные ходы, то во всём прошу винить С.Ивкина: не я, а он учудил ретроспективу этих лент в кинотеатре «Знамя».
Если же следующий свой показ он организует в кинотеатре «Новый мир», то я от зависти просто Тчк тчк тчк
правка и сведЕние 10 ноября 2008 г.
Евгений Сусоров
Телеграмма из ниоткуда в никуда
(блиц-рецензия на стихи Сергея Ивкина)
Читать Сергея Ивкина почти так же интересно, как расшифровывать какую-нибудь клинопись времён царя Хаммурапи. Ощущение, что перед тобой не просто текст, а произведение графического искусства. Тайнопись, спрятанная под слоем пиктограммы. Послание, зашифрованное на «Энигме», встроенной в душу поэта, и отправленное в бутылке из-под коньяка-на-четверых в чреве кита — того самого, что когда-то поглотил библейского Иону.
Ивкин, как известно, художник по своей основной специальности. И это обстоятельство накладывает на его поэзию, пардон за трюизм, неизгладимый отпечаток. Ямбы, хореи, амфибрахии, верлибры и дольники для Сергея — своего рода кисти разных калибров, которыми он наносит на белый лист бытия тонкие мазки, властно останавливающие мгновение вне зависимости от того, прекрасно оное или нет. Да и что есть «прекрасное»? Прекрасным может быть и полиэтиленовый пакет на ветру, если верить героям фильма «Красота по-американски». Прекрасен воробей, ворующий кусочки сыра у собратьев. Прекрасен пёс, роющий лапами рыхлый февральский снег, пока хозяева предаются таинству утренней пробежки. Прекрасен цветок каланхоэ, против законов физики, против воли Божьей и человеческой разбрасывающий по комнате поэта свои надоедливые семена. Если Ивкину однажды придёт в голову описать в восьми строчках мумию Тутанхамона, только что извлечённую из саркофага — он сделает эту мумию благоухающей и сексуальной. Почему так? Да потому что Ивкин ведает секрет трансмутации частного в общее, пылинки — в Галактику, а грубой глины — в Образ и Подобие, венец творения и смысл существования Бога. Трансмутации едва различимого ухом звука в упругую графику строк и архитектуру строф.
Не будем алгеброй поверять гармонию. Просто прислушаемся. Как в детстве прислушивались к шуму моря внутри раковины.
…и воздух, уплотняясь под крылом,
расходится широкими кругами.
…Опадает с карнизов
холодное небо
и для луж приготовлена
улиц посуда.
…Сигнальным свистом воздух
целиком
на ровные квадратики распилен.
…длинно летит душа
птицей сторожевой.
Клонировать макрокосм из незримой глазу молекулы мимолётного образа — великое искусство. И не в том даже дело, что «не каждому дано» — каждому, в том-то и дело. Образ и Подобие — не забыли ещё? Беда в том, что не каждый берёт на себя труд оторвать нижнюю голову от стула, найти ключ от внутренней лаборатории, облачиться в зелёный халат, включить на полную мощность софиты — и… Уйти от себя, чтобы обрести себя. Ивкин сделал первый шаг в этом направлении.
Бегу вдоль парка…
Дворы снесли,
а Парка тянет и тянет пряжу…
Где ты теперь, китайчонок Ли?
Ответ не важен.
Ответ не важен потому, что мысль изречённая есть ложь. Слова — тени изначальной Идеи Слова. Именно поэтому, наверное, поэзия Сергея Ивкина столь пунктирна, эфемерна и дробна — как стук нефритовых бусинок, сорвавшихся с нитки чёток и рассыпавшихся по полу. Бусины катятся под шкаф и там смешиваются с элементами подшкафного инферно: оторванными когда-то пуговицами, выкатившимися из рук монетками, клочками старой паутины… Ивкин запирает это инферно в скобки — то ли отдавая дань Великому Хаосу, смешавшему в карусели броуновского движения чёрное и белое, живое и мёртвое, важное и неважное — то ли потому, что для Бога НЕВАЖНОГО в созданном Им мире не существует. Кавычки — лишь знак того, что сотворённое взвешено, найдено излишне лёгким и отложено на потом. Или это нам только кажется, что отложено.
пересекаешь двор и слева солнце бьётся
наклонный снег тяжёлый и сырой
ты смотришь в небо раздаётся моцарт
(излишне быстро из 40-й)
стой у тебя ружьё с кремнёвым механизмом
горит на шапке синее перо
зверь смотрит на тебя и это стоит жизни
стреляешь первый раз ты новичок зеро
(выхватывай фрагмент) собаки скалят
и поводок дерут втыкаясь в плотный наст
базлание рожка реальность городская
картинка за стеклом ошибка (целина)
непрожитый мираж зачем оно когда ты
целуешь пса в оскал и в небо во всю ширь
проносятся свистя финальные закаты
мерзавец Амадей
стреляй
дыши
ды-
ши
Сергей Ивкин — плоть от плоти Екатеринбурга. Города «злых екатеринбук» и «разжиревших екатеринборовов», города патологически кривых и узких дорог, над которыми возвышаются сумрачные, погружённые в непролазный самоанализ джунгли небоскрёбов — столь же неуместных в данной точке времени и пространства, сколь неуместна смерть на свадьбе. Города, триста лет подряд выдавливающего из себя по капельке комплекс неполноценности. Гадкого утёнка, который грезит о глади лебединого озера.
фактура летящего снега
дорогой сорт бумаги
для самых важных событий:
проводы на вокзале
первый поцелуй
на ступеньках тамбура
беседа о Боге
с человеком, который
хотел меня убить
сколько ещё ноябрей
не разобрать
по толщине пачки.
Но Ивкин шире границ мегаполиса, породившего его тридцать (всего-то????????) лет назад. Он вообще, похоже, презирает понятие «границы». Он как пушкинский дон Гуан, увидевший под вдовьим чёрным покрывалом узенькую пятку, в минуту дорисует остальное (он ведь художник, не забыли ещё?). Иногда дорисует так, что самому страшно станет.
над городом плывут левиафаны
на нитях остановлены машины
слепой ребёнок ножницами шарит
ему пообещали элефанта
она пообещала быть инфантой
она пообещала среди женщин
пинать ногою и лететь нагою
над городом плывут аэростаты
и овцы объедают пальцы статуй
Впрочем, в электричке этого короткого и маловнятного текста уже становится тесно от слов. Да и не нужны слова, когда речь заходит о Мастере, умеющем превращать колебания воздуха в знаки препинания, а формулу мира — в короткую телеграмму, посланную из ниоткуда в никуда.
«тчк
тчк
тчк».
Инна Домрачева
Вкус чечевичной похлебки
(частное мнение)
Бритый череп, сведённые брови, тяжёлый взгляд – к тридцатому году Сергей наконец-то принял мимикридную окраску. Уральский парень из густых металлургических лесов. Рядовой поколения, которое предпочитало не ходить в школу без кастета. Поколения, чьи дядья возвращались из Афгана и начинали выращивать себе смену для Первой Чеченской. Маска села хорошо, но поздно.
Это был уже не воин, а земледелец. В своём роде – антипод Рыжего.
Из интеллигентного мальчика Бориса, «профессорского сынка», табакерошным чёртиком выскочил бунтарь, романтический хулиган, Мэкки-Нож. Из дичащегося подростка с Уралмаша, чьи одноклассники и «кореша» с двенадцати «стажировались» в знаменитой уралмашевской мафии, пророс чистокровный, беспримесный лирик, видящий гармоническую взаимосвязь элементов мира всюду, куда падает его жадный взгляд – в скудном быте родительской квартиры, копошащемся в пыли воробье, «нонеймовой» бутылке с газировкой.
А вот о жестокости мира он редко говорит впрямую, именуя её орудия; злая сила в его стихах почти всегда носит маску: «тёмное небо», «притяжение земное», «среда, лобызающая до содроганья мерзкого».
На секунду может показаться, что Ивкин пытается прикрыть глаза, не желая видеть страшного, беспощадного взросления своих сверстников:
…двор корнями
вцепился в нас. Разорвал нас на
две половинки:
на тех и этих.
Как рядом с нами легла война —
я не заметил.
Но это обман, в который не верит ни читатель, ни сам автор. В действительности Сергей смотрит на окружающий его мир не щурясь – даже когда хочется.
Его тексты о войне (к сожалению, не вошедшие в данную книгу) как будто несовременны, настолько беззащитным предстает в них лирический герой. Беззащитным перед необходимостью убивать и неспособностью спасти. «Вы бьёте словом чрезвычайно метко, / С богемной эмигрантщинкой такой», — говорит он о другом поэте, и проговаривается – о себе. На одном из концертов для ветеранов войн на Сергея набросится парень, вернувшийся из Чечни, с криком: «Да кто ты такой, чтобы писать об этом – так?!» — «Он – поэт, – жёстко ответит председатель Уральского Союза ветеранов Афганистана Евгений Бунтов. – Ему – можно».
Можно тому, кто из частного, зачастую – чужого – отчаяния умеет вылепить лицо, неотличимое от каждого из нас:
— Смешная, всё же, рыба — человек:
выпрыгивает из прибрежной пены
и бьётся на коричневой траве,
от боли загибаясь постепенно.
Лепи, гончар, лепи, родненький! И на лице проступает грустная насмешка над товарной природой чувства, над «новой искренностью» и эпатажем:
День завершён. Краснофигурной вазой
стоит на полке.
Вымыть и продать.
Это – тоже война. Война за свою идентичность. И Сергей точно так же не хочет участвовать в ней, пока его не вынуждают. Году в двухтысячном, ещё тонкошеий студент с детской улыбкой, он до последнего пытается заговорить привязавшегося к нему на улице наркомана. Рассказывает, что художник, рисует портрет агрессора, и лишь двадцать минут спустя, поняв, что слова бессмысленны, коротко вздыхает и принимается гонять своего «натурщика» по двору валявшейся неподалеку арматуриной. Потом жалуется: «А ведь он поверил, что я его ударю…»
Его грызет мучительное желание дистанцироваться от процессов, имеющих к литературе опосредованное отношение, и просто писать. Но мир затягивает в себя, как водоворот, и пишется «программное»:
да я выжил вот в этой культуре
безымянной почти что на треть
перепало на собственной шкуре
в невозможное небо смотреть
(это тёмное небо отвесно)
ты приходишь в себя от тычка
в электричке становится тесно
тчк тчк тчк
Текст горчит, как хина, но от озноба не лечит. Особенно, если знать первоначальный вариант первой строки — «Да, мы выжили в этой культуре». «Я, — говорит нынешний Ивкин в ущерб мелодике текста. — Я больше не вижу, кто выжил еще».
Но ему удается перешагнуть и через это. Гармоническое единство всего, что живёт, опять побеждает смерть неизвестным науке способом. А впрочем, почему неизвестным? Известным, и, пожалуй что, ещё с Гесиода:
Перекопка, посадка, прополка, поливка, селитра
и другие добавки к естественной нашей среде –
вот и все наши письма и песни, продажи, поллитры,
гениальные вирши, измены т.д. и себе.
Для кого этот сад? Чечевицу духовной свободы
мы способны взрастить на любом континенте. Копай
злую землю уральскую, лей в её трещины воды
Потому что не время считаться литературным первородством и торговать чечевичной похлебкой. Никогда не время.
Аника Петкевич
(из личной переписки)
Однажды Ивкин вышел погулять и встретил парк в древесном оперенье, там было всё, фонтан, метель и блядь из гипсомрамора, но не хватало тени. Сел Ивкин у куста на каменный пенёк и пирожок достал с ручным вареньем, и начал есть, и раскусил стишок, замешанный словами – на колени он выпал свиточком из тонкого стекла, в котором отражался Ивкин юный. Поэт свернул из свитка мотылька и отпустил лететь в гарем снежинок, а сам пошел в ближайший кафешоп вкушать бессловные пирожные под шёпот потных трепетных и ног, которые напротив.
А мотылек снежинок не хотел, ему тепло и сладость были раем, и он летал, дремал, смотрел, следил, и к ночи сел на тонкую серёжку деве. Иней он растопил и зашептал туда, где билось море тёплыми волнами, в ту раковину уха, что вела к душе нежней вина, где жилы жили, там она свилась клубочным змеем и ждала… И были слова от мотылька ей тем ключом, который повернул по ветру время, и косы распустил, и отомкнул уста от их зашивших привидений…
Зачем тратить время на скачивание из сети эротики и выяснение степени натяжения связей и строп с мужскими телами, подумала я, когда можно получить ничуть не меньше искр, света и страсти от промывания крови твоими, Сергей, стихами? Подумав, я засомневалась: стоит ли озвучивать эти мои чувства к словам… Но слова ведь не покинут меня и не изменят, потому что автор уже отпустил их в мир, и мир стал ярче, и обрел право на дальнейшую игру, потому что всё равно проиграл поэту, который его пересоздал.
Ивкина надо читать рано утром, тогда хочется просыпаться и снова лезть на колокольню, чтобы оттуда увидеть всех живых мира сего)))
Елена Оболикшта
«Единственная местность» возможного поиска
(электронный журнал «Новая реальность», 2009, №1)
Для меня существование поэзии – это возможность речи, которая отличается от разговоров на улице, от перекрикивающих друг друга заголовков прессы и рекламы, от выхолощенного профессионального языка, даже от самой доверительной дружеской беседы. Отличие это – не в содержании, а в тоне, т.е. не в том, ЧТО говорится, а в том, КАК. Или такое состояние, в котором всё это способно поэзией стать, когда звучит каким-то особенным голосом. Для каждого поэта, как и для каждого непишущего человека, наверное, характерен какой-то свой, особенный тон речи, звучание голоса, интонации. И всё это накладывает огромный след на то, что именно человек говорит, и чаще оказывается даже важнее и честнее самих слов. Часто ли мы говорим именно те слова, которые соответствуют нашему состоянию? «Для всего этого у нас не хватает слов» – писал Л.Витгенштейн, и немудрено, потому что слов всегда меньше, чем всего того, что с нами происходит. Но тем не менее – поэзия возможна. Возможна благодаря не только словам, но и тонко интонирующему поэтическому голосу. И услышать этот голос, тон речи – самое главное для меня как для читателя стихов…
Сергей Ивкин не только поэт, но и художник. А для художника самое главное – видение, зрячесть. А у зрения, как и у чистого звука – совсем иной логос, нежели у слова, иные законы.
из веточек алоэ и герани,
из пряностей, растущих в Тегеране,
и сухоцветов, кофе, чая, сливок,
сухариков, креветок и оливок,
надкусанных в дороге чебуреков,
зашитых за подкладку оберегов,
из карточек оплаты «Мегафона»,
из словарей Брокгауза – Эфрона,
из так и не просроченной обиды…
Подробное перечисление необычайных (=важных!) деталей «местности», которой обрастает текст, вообще свойственно С.Ивкину. Иногда это напоминает какой-то хаотичный видеоряд, иногда ожившие фрагменты картины, которая в целом никогда не видна, иногда панорамную съемку. Но что за этим скрывается? Только художник знает то множество эскизов, оттенков и движений, которые он использовал в процессе создания даже самого простого для сторонних глаз изображения. И этих оттенков и движений также несоизмеримо больше, чем слов. Но всё-таки каждый текст пытается как бы собрать воедино какие-то детали, мимолётные ощущения, и существует лишь для того, чтобы нащупать возможность соединить их. Смешение языковых красок в надежде получить новые поэтические «цвета», новое взаиморасположение предметов в некую композицию и/или попытка увидеть эту композицию цельной. Именно поэтому, скорее всего, в поэме «Одна ночевка и один день», так называемом сентиментальном путешествии, словарь поэта включает в себя лексику из совершенно разных, казалось бы, пластов языка: крючком, пучком, паучком, лампочка, скрипочка, скорлупка, мотыльком, лексика, монолог, риторика, значенье, улочкам, под хвост коту, культура, биологический класс… И правда, путешествие сентиментальное. От поэмы «Пересеченье собачьего парка» возникает похожее ощущение – очень выверенная концептуальная сторона, но абсолютная эклектика в соседстве таких слов как лимит, график, любимая, треуголка, прививка, огонёк, курсор, текст, кубики, ауспиции, мечта… Все это перечисление с причудливо расставленными смысловыми акцентами, на мой взгляд, пытается передать именно видение некоторой местности, сделать некий панорамный снимок. Но замечателен завершающий текст поэмы:
Я вжался в кресло,
а моя душа
лохматым псом,
на задних лапах стоя,
рвалась назад и не могла
дышать
нахлынувшей внезапно
пусто-
тою.
Именно здесь (топологически, т.к. мы находимся в местности) возникает ощущение выдоха, т.е. не метафизически, но поэтически, поэма шла как будто именно к этому высказыванию, к этому тону голоса. В этом тексте происходит выдох и появляется подлинно поэтическая тишина. О ней-то и стоит говорить.
Когда я слушала однажды живое чтение стихов С.Ивкина на одном из его выступлений, я обратила внимание на то, что во время чтения им текста «Возвращение» вдруг незаметно в зале челябинского кнайп-клуба «Буквари» (а может быть, и во всем городе в тот момент) возникло ощущение такой тишины, в которой нет ни времени, ни разделения на поэта и слушателей, нет ничего, кроме:
Пока меня не отдали под Суд
за время, разбазаренное на ме-
лочёвку, я приеду в дом к отцу,
увидеть неутраченное нами…
Такая простая, исповедальная, не притязающая ни на что интонация (а может быть, такое преломление ее во мне), кажется, редко встречается у С.Ивкина. Скорее, подобная кристальность и чистота для меня – это Алексей Решетов. Именно в его стихах картины и детали самой обыденной жизни звучат таким тихим, исповедальным человеческим голосом, по сравнению с которым всё остальное – крик и грохот, т.е. что-то лишнее, избыточное. У С.Ивкина в тексте «Возвращение», на мой взгляд, более всякой детальности важен такой тон голоса, когда сила самых простых слов и рассказ о самых простых вещах приобретают какую-то почти библейскую значимость:
Отец стоит и руку жмёт. Он вновь
на свой престол продавленный садится.
И яркий свет, избыточный, дневной,
в иконы превращает наши лица.
Несмотря на особенности словаря С.Ивкина как поэта, несмотря на втягивание в поэтическую ткань самых причудливых слов, поставленных рядом, есть моменты, когда подобная «решетовская» интонация сглаживает все неровности. В этом и есть феномен поэзии, заключающийся в чём-то помимо самих слов, когда возникает та тишина, которая существует до всякой речи, и которая является лучшим из возможных слушаний и слышаний:
На каждой паузе распахнуто окно
Тишина является неким простором для слушания, вслушивания, это как место слуха, которое воссоздается подлинной (т.е. твоей, уникальной) интонацией. Всё остальное «обрекается на немоту». И.Бродский, возможно, имел в виду именно это, хотя объяснял таким образом свою собственную поэтическую невозможность говорить после чтения стихов Мандельштама, Цветаевой и некоторых других. Но что именно обрекается на немоту? Ты сам или всё лишнее в тебе? «Решетовская» исповедальная интонация, которая, на мой взгляд, является подлинным поэтическим (и человеческим!) голосом С.Ивкина, присутствует и здесь:
В тихом доме моём обитает цветок-каланхоэ –
многодетный кумир подоконников старых квартир.
Иногда его холит скупой садовод-меланхолик
из немецкой бутылки с наклейкою «Zärtliches Tier».
Пропадут семена, недокормят, не выставят воду,
новый веник в совок заметёт партизанскую сеть.
Я смотрю на него, постигая чужую свободу
беззаботно над бездной висеть.
Постигая чужую свободу (с неосознанной попыткой причастить себя ей как чему-то большему, чтобы она стала и твоей свободой!) поэтически, можно пойти разными путями доверия, хотя мне наиболее близко доверие звуку/голосу. У С.Ивкина в некоторых текстах присутствует особое соотношение поэзии и мышления, поэзии и зрения/видения, поэзии и интеллектуально-энциклопедической части сознания. На всех этих путях, следуя всеми ими, порой одновременно, поэт пытается (а может быть, пытаюсь я как читатель) найти, услышать, договориться, дописаться, дочитаться до чего-то единственно предназначенного к проговариванию поэтическим способом. Вся книга напоминает мне довольно странную, очень разнообразную по природным условиям местность, на которой встречаются оазисы, где мне, в частности, уютнее всего. Эти оазисы, как некие точки кипения, говорят о переходе здесь (топологически) языка в новое качество. Всё, что между ними – соединяет/разделяет их, хотя скорее просто оттеняет, служит фоном, и поэтому топология поиска подлинного голоса разворачивается перед нами как процесс самого поиска, происходящего как будто в настоящий момент. Многое может вызывать вопросы, которые остаются открытыми, пока не доберёшься до следующего оазиса, места, где тишина важнее всяких слов:
над нами просыпается рассвет
и никого нет в мире кроме Бога
и две собаки (и ещё немного)
и три собаки спящие в листве
Иной раз встречаются тексты, написанные с большим доверием звуку, нежели метафизике и кругозору, не стильно одетая мысль, но голая речь, почти не вызванная ассоциацией или попыткой перевода зрительного логоса на словесный, это скорее безусловный рефлекс, реакция, чем рефлексия. Здесь автор пытается говорить как бы «впервые», так, как будто он только что родился, т.е. не обращаясь ни к чему, о чём он до этого знал, слышал, читал, не сравнивая ни с чем, что уже как-то существовало в языке. Невидимые мостики, перекинутые между словами, стали как бы длиннее и подвижнее, и находятся в самых неожиданных местах:
над городом плывут левиафаны
на нитях остановлены машины
слепой ребёнок ножницами шарит
ему пообещали элефанта…
Произошло смещение эстетики (а значит, и этики тоже!), стало существенно меньше шорохов, тактильного перебирания предметов вслепую, но поиск отнюдь не завершен, скорее, он теперь происходит на более экзотической территории, в ином климате, в иных широтах.
Лестничный марш Ракоци.
Если сбегать вниз, то крошатся пломбы; вверх – закладывает барабанные.
…
Несколько человеческих окурков
вполголоса обсуждают своего генерала.
Я жил на последнем этаже.
Вообще, этот поиск «единственной местности» или чего-то кроме неё, возможно, происходит исключительно со мной как с читателем, отражая только моё читательское состояние, ведь, если верить Марианне Гейде, можно вчитать любое содержание в любой текст. Но, скорее, можно войти в любое состояние через любой текст, если текст это позволяет. Возможно, все пейзажи этой местности абсолютно самостоятельны, законченны и не стремились ни к чему иному, кроме как рассказать о собственном существовании всеми возможными в языке способами. Хотя пройдя книгу С.Ивкина как «местность» хотя бы раз, представив и поверив, что эта местность – единственная, как мама и Родина, а язык только в поэтическом состоянии – дом бытия, – уже невозможно остаться тем, кем был до этого не всегда «сентиментального» путешествия.
И нельзя не заметить, что весь этот «путь обратно чем дольше тем ближе» становится совсем иным, если он постепенно лишается оглядывания назад как соизмерения, сопоставления, а становится путём доверия и, наконец, веры. В языке всё происходит медленнее, чем в природе, но становится ощутимее и больнее, если выходит на свет:
бедный мой,
бедный мой русский язык,
бедный враг мой
Закрыть глаза от света и боли – легче, но идти нельзя, и только ослепнув (в каком-то смысле), начинаешь по-настоящему верить, а значит, прозревать, чтобы сделать первый настоящий шаг:
по камням светящимся впереди
Екатерина Гришаева
ЗРИМАЯ СВОБОДА
Можно ли сказать, что стихотворение это некоторое место, в котором происходит речь? Другими словами, есть ли у стихотворения пространственные координаты, помимо временных? Принято говорить о том, что все строки стиха существуют одновременно, для них нет времени, несмотря на то, что их произносят последовательно. Время как бы схлапывается, стихотворение, получается, время преодолевает. А что происходит с пространством, если время отсутствует?
Пространство становится ощутимым в тот момент, когда оно делается видимым. Зрение всегда совпадает (до некоторой степени) с пространством, в котором оно присутствует; зрение пространственно. Оно существует только пока есть объект; в темноте всякий человек становится слепым. Зрение, получается, создаётся не только человеческим глазом, но и предметами, которые рядом с ним присутствуют. Когда мы говорим о пространстве стихотворения, мы всегда говорим о некоторой особенности зрения человека, их написавшего, о некотором особом внутреннем пространстве.
Любой текст мы воспринимаем не только на слух, но и зрительно.
В стихах Сергея Ивкина зрение иногда важнее, чем интуиция, ритм, звукопись; они зрительны, подробны. В них детали самостоятельны, самоценны, иногда они не оставляют места ничему иному (лирическому высказыванию, например). Стихи С.И. пространственны, в них пространство ощутимо, осязаемо, как будто знаешь, какой в нём воздух, какого цвета пиджак у прошедшего мимо человека; как будто ты был там сам, а теперь просто вспоминаешь. Это пространство памяти, в которое вводит нас повествовательность, как пространство внутреннее, в котором мы могли бы существовать.
Пространство предполагает свободу взгляда, движения; пространство необходимо предполагает перемещение внутри себя. В книге стихов «Пересечение собачьего парка» мы встречаем множество описаний движения в пространстве (памяти, но не во времени, у воспоминания времени быть не может):
Моё гнездо, Итака – только часть
культуры, не желающей смешаться,
поскольку местечковость – это власть,
которая на то нам и сдалась,
чтоб научились мы перемещаться
по этим землям, перевоплощаться
в библейских ангелов
…
карта, градусы широты,
долготы –
между Польшею и Китаем
я – не то,
что
я есть.
Только
Ты –
то,
куда я
Это перемещение пунктирно, это перемещение поиска. Возможность движения для этих стихов является одной из основных, смысловых координат.
Зрение автора, внутренне пространство текстов меняется от книги к книге.
Для стихов из книги «Пересечение собачьего парка» важно то, что там предметы существуют как бы одновременно, невозможно понять, где точка отсчёта, откуда бы на них мог смотреть собеседник, их читающий. Ты видишь всё одновременно, и сложно сказать, в каком месте ты находишься; это пространство памяти, где наблюдатель как бы смотрит сверху на своё прошлое. Иногда получается как бы беспорядочное перечисление, путаница деталей, как будто не знаешь, на что оглядываться, детали начинают тебя гипнотизировать, не дают услышать сам текст.
В стихах, написанных после первой книги, и ещё отдельную книгу не составивших, зрение меняется; оно скорее сосредоточено на внутреннем говорении, чем на внешних деталях, это зрение вовнутрь. Оно направлено в одну точку, по сути, неважно куда, когда видишь и не видишь одновременно, потому что самое важное – то, что происходит у тебя внутри, остальное если и замечаешь, то инстинктивно. Поэтому те предметы, которые появляются в тексте, они не столь важны; они нужны скорее, чтобы текст существовал, это какие-то полуслучайные детали, нужные для того, чтобы сказать нечто большее. Стих как нечто вещественное нуждается в материи, чтобы существовать, в предметах ощутимых, зрительных, объёмных, а иначе он делается несуществующим. Стихи С.И. становятся похожими на бормотанье, попытку выговорить реальность, которой ещё нет, чтобы изменить существующую;
если бы эрудит –
умственный инвалид
палкою шерудит
слушает, как звенит.
Отсюда и характерные оговорки, пропуски слов, как бы заумь; язык не успевает сам за собой, словно пытаясь сказать что-то более важное, некоторые слова, логические связки пропадают, становятся ненужными, как не нужно человеку хождение на четырёх ногах (руках?):
Но за квадрат стола
пятеро — не ахти
На вот, возьми крыла:
проще пешком дойти.
Тексты стали плотнее, в них не важны отдельные слова, детали; слова, как камни в кладке дома, подходят друг другу плотно и между ними уже невозможно поставить что-то лишнее, иное. Эта плотность отчасти делает тексты сложными для прочтения, но усилие прочтения становится радостью.
Пространство внутри текстов С.И. превращается из художественного в поэтическое. В нём появляются свои законы пространства не трёхмерного, повседневного, а придуманной реальности души, в которой и автор, и читатель делаются свободными.