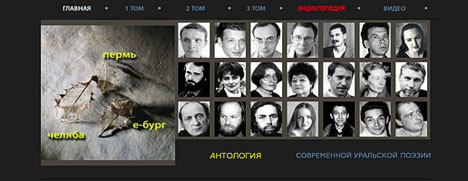Аркадий Застырец
Первая часть подборки материалов об Аркадии Застырце ЗДЕСЬ.
Сегодня — о книге Аркадия Застырца «Я просто Пушкин»:
«Судя по строчкам из эпиграфа ко всей книге, где красуется гордое «Procul este, profani» («Прочь, непосвященные»), можно смело утверждать, что перед нами произведение отнюдь не наивное, обращенное к первому встречному. Сам автор упоминает несколько типов читателей — «осведомленный», «пытливый», «внимательный», но все эти категории поставлены в такой ироничный контекст, что практически их от «докучного» отличить невозможно. Мы можем лишь догадываться о причинах неприязненного отношения автора к «внимательному» читателю, который под горячую руку в книге назван даже «тетерей».
Дело наверное в том, что «осведомленный — пытливый — внимательный» читатель, одним словом «докучный», как нам кажется, сразу обратит свой «пытливый» взор на то, что мягко говоря можно назвать «поэтическими вольностями». Вся книга в сущности и есть сплошная поэтическая вольность! Автор, предвидя, что это не укроется от «внимательного», то бишь «докучного» читателя, заранее на него негодует и готовит мины и подвохи. Так, первая часть эпиграфа, предваряющая грозное «Procul este, profani», является как бы пушкинской «Сценой из Фауста». Но это только на первый взгляд, со второго обнаружится, что лишь начальная строка принадлежит Александру Сергеевичу и то в эпиграфе она увенчана восклицательным знаком, отсутствующим в оригинале. Заканчивается же «сцена» поэтическим образом — «Белеет парус одинокий» — взятым из «Паруса» М.Ю. Лермонтова.
«Так нас дурачат!» — возмутится «докучный» читатель и окажется не так уж далек от истины. Действительно автор по неведомым «осведомленному» читателю причинам вполне сознательно здесь и практически во всех остальных местах «морочит голову», хотя ведь предупредил вперед на титульном листе, что все, что касается стихов, принадлежит его перу. Но есть же всему пределы — воскликнет раздосадованный «внимательный» читатель. Узнав из первой главы, что верноподданический пиит Пушкин в результате вероломства его друга Василия Андреевича Жуковского отправлен царем в Молдавию наблюдать за нашествием саранчи аж в 1826 г., «пытливый» читатель с презрением отбрасывает злокозненное сочинение и произносит ему окончательный приговор — чепуха.
Странное это существо — писатель. Казалось бы, почему сразу, с первых страниц книги не объяснить читателю про те кунштюки, которые он хочет выкинуть. Кстати, многие авторы пишут просто и прямо без всяких затей. Но что греха таить, есть и такие, и их тоже хоть пруд пруди, которые любят поводить читателя за нос, поиграть с ним в кошки-мышки, набить себе цену. Ну какие, например, мысли возникают, если внимательно прочесть такое, с позволения сказать, поэтическое произведение:
«Однажды нес пастух куда-то молоко,
Но так ужасно далеко,
Что уж назад не возвращался.
Читатель! Он тебе не попадался?»
Явный абсурд. При чем здесь читатель? Что он (т.е. автор) играть с нами вздумал? Может быть, и играть. Ему больше делать нечего, как играть с читателем.
Н.В. Гоголь написал в «Ревизоре», что Бобчинский, принимая Хлестакова за важного сановника, изложил ему свою нижайшую просьбу: «Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство, или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский». У Аркадия Застырца к Хлестакову обращается с подобной просьбой не Бобчинский, а Земляника, которого здесь кличут не Артемий Филиппович, а Митрофан Феофанович. И просит этот новоявленный Митрофан Феофанович Земляника донести весть о своем существовании не разным вельможам (или даже царю), а Александру Сергеевичу Пушкину, чтобы тот доподлинно ведал, что вышепоименованный Митрофан Феофанович Земляника знает, любит российского поэта и читает его стихи ежедневно. Таким образом автор вовлекает нас, читателей, в литературную игру под названием «Эпизоды из жизни величайшего гения российской национальной словесности». Обычный набор тем: некоторые события биографии, круг друзей, оппозиция «поэт и царь», творческая лаборатория. Правда, сразу становится ясно, что из этого стандартного набора сделана карикатура на книгу, написанную по случаю юбилея великого поэта. И только потом подспудно приходит сознание, что сниженный прозаический язык, излагающий биографические вехи, вступает в сложные отношения с поэтическими иллюстрациями автора, подчеркивая высокую сущность поэтического творчества.
Повествовать о жизни Пушкина автор доверяет какому-то странному чудаку, несущему окололитературную околесицу: «Как-то, году, Бог его знает, наверно в восемнадцатом, Александр Сергеевич заехал в Михайловское накануне осенней распутицы, да что-то прикипел настроением к родному местечку и решил зазимовать в своем имении». Чуть ниже эта осень названа Болдинской (!?). Короче говоря, рассказчик врет напропалую и глазом не моргнув. Правда, тому есть литературные примеры, когда знаменитые писатели, если так можно сказать, делегировали часть своих авторских прав рассказчику. У Эразма Роттердамского перед ученой публикой выступает с забавными речами олицетворенная глупость Сульпиция, у Гоголя читатель узнает о судьбе несчастного Акакия Акакиевича Башмачкина из непринужденной болтовни его же брата чиновника, который не упускает случая позубоскалить над недостатками и неприглядной жизнью титулярного советника. Гоголевский рассказчик особо примечателен своенравием: что-то в рассказываемой истории он просто подзабыл: «Память начинает нам сильно изменять», что-то он полагает невозможным для человеческого постижения: «Ведь нельзя же залезть в душу человека и узнать все, что он ни думает», а что-то ему казалось не имеющим никакого интереса: «Кому все это досталось (т.е. вещи по смерти Акакия Акакиевича), Бог знает: об этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающий сию повесть».
Известные литераторы XIX в. братья Жемчужниковы и А.К. Толстой создали литературную маску — писателя Козьму Пруткова. Ему-то, как они справедливо полагали, будет удобно сказать то, что невозможно напрямую выразить самим. Ну разве в серьезном тоне и не от мифического Козьмы можно было обнародовать «Проект: о введении единомыслия в России»? Аркадий Застырец не мог бы от своего лица утверждать, что вот-де мол в одном из добросовестно написанных трудов о жизни гениального русского поэта он обнаружил такую подробность: «Подъезжая к Таганрогу, у Пушкина слетела шляпа». Не мог в силу фантастической нелепости и безграмотности этой фразы. Она немыслима как авторская речь и может принадлежать лишь рассказчику.
Автор охотится за нелепицами. Он их изобретает сам, использует готовые литературные образцы.
В данном случае на помощь приходит «Жалобная книга» А.П. Чехова, где есть подобная смешная запись: «Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин». Отсюда шедевр и извлечен Застырцем и приписан его рассказчиком какому-то якобы добросовестному автору некой биографической книги о Пушкине. Затем эту мнимую подробность жизни поэта рассказчик осудил за недостоверность и ненадежность и противопоставил текст своей книги, где якобы «нет ничего случайного, ни тени вымысла, ни капли доморощенности, увы, нередко лезущей изо всех щелей литературной биографии великого человека». Так совершенно сознательно нелепости в книге возводятся в квадрат и куб. Мы имеем дело с литературной игрой, к которой автор приглашает читателя, способного понять намеки, аллюзии, смещения, преувеличения, способного позабавиться ими, способного смотреть сквозь них.
«И, увлеченный тайным счетом,
Провидит истину вдали!»
Книга «Я просто Пушкин» несет в себе атмосферу не одной лишь литературной игры. Но и сама по себе игра — многослойное явление. Она дает выход избыточной жизненной энергии. Она сопровождает праздник и досуг. Игра — это особый мир и нередко мир секретный, таинственный, в который можно войти через посвящение. Procul este, profani. Игра реализует врожденное стремление человека вверх по духовной вертикали, открывает мир противостоящий всему обыденному, земному, прозаичному. Игра предполагает выбор, это территория свободы, непредсказуемого результата.
«Зачем крутится ветр в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На черный пень? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Гордись: таков и ты, поэт,
И для тебя условий нет».
Профанному снижающему началу книги, выраженному рассказчиком, нередко покушающемуся на сокровенное в биографии поэта, противостоит поэзия, в которой звучит подлинный голос автора: свободный, ищущий любви, правды, смысла жизни, жаждущий провидеть судьбу своей Родины, открыть путь к Богу. В этом столкновении двух начал — профанного (скоморошеского) и сокровенного, поэтического — заключено особое напряжение всего произведения, его амбивалентность и спорность. Но здесь высокое побеждает, поэтическое утверждается как вечное.
«На Руси, где год от года
Гуще горестей гурьба,
Как спесивица-погода,
Переменчива судьба.
Только радуга-надежда
Семицветье развернет —
Тут же сволочь и невежда
Над державой верх берет
Но пускай не быть счастливым
Здесь Господь тебе судил,
Оставайся терпеливым,
Сколько сердцу хватит сил!
Не кидайся с бурей слиться,
Довершив собой ряды
Всякой нечисти, что тщится
Выжать горе из беды.
Будь ты сам себе опорой
На заре и склоне лет —
Всем держать придется скоро
Перед Богом-то ответ».
Пушкин — олицетворенный поэт и потому всякий российский стихотворец несет в себе отблеск его личности.
Название книги Аркадия Застырца «Я просто Пушкин» — коннотация, значение второго порядка, возникающего из синтеза смысла созданного текста книги и самого факта наличия автора, его способности к поэтическому творчеству. Творческие муки автора по воплощению своего героя в тексте книги есть одновременно и борьба со своими случайными реакциями на поэтическое творчество, борьба с самим собой за собственную самостоятельность как поэта. Эту историю борьбы за самого себя автор рассказывает как историю поэтического творчества Пушкина. Рассказывает оригинально, современно и поэтично.
В итоге нам показалось необходимым обратиться к Аркадию Застырцу с несколькими вопросами.
Ю. МИРОШНИКОВ
— Отношения писателя с читателем — важный момент литературного процесса. У каждого писателя есть свой излюбленный читатель и такой, к которому книга, будь его воля, не попала бы вовсе. Н.Г. Чернышевский обращался к «проницательному» читателю, М.Е. Салтыков-Щедрин — к читателю-другу, читателя простеца он презирал, солидного — недолюбливал, а к читателю-ненавистнику питал адекватные чувства. Как складываются ваши отношения с читателем? Ваш любимый читатель?
— Я бы как раз, в противоположность Михаилу Евграфовичу, предпочел всякого рода читателям — простеца. Мои записки о Пушкине лучше всего принимают и понимают люди, с точки зрения профессионального литературоведа (так и подмывает обозвать оного литературоедом) абсолютно безграмотные. Они не отвлекаются на всякого рода мелочи в тексте моей книги, на несоответствия официально признанной истории, то есть обкатанному своду точек зрения, а сразу улавливают суть: Пушкин жив, и отнюдь не в переносном смысле, и прочие важные истины. Впрочем, все подобные предпочтения писателя, на мой взгляд, не должны диктовать ни буковки в его творчестве.
— У Козьмы Пруткова есть не только «собрание сочинений», но и портрет, известны его родственники по прямой линии, место службы и т.д. Исходя из речевой характеристики, мы можем судить о социально-психологическом портрете рассказчика «Шинели». Что можно приписать достоверного рассказчику «Я просто Пушкин»? Можно ли говорить о сказовости этого произведения?
— Я не только не скрываю, но и вслух не раз утверждал, что в этой моей книжке сказовость или, осторожнее говоря, фольклорное начало несомненно присутствует. У меня гораздо больше общего с архангельской сказительницей, с чьих уст записывал Борис Шергин, нежели с отчаянным Хармсом и зачастую желчно-жестоким Зощенко. К несчастью, мы давным-давно забыли, что мотором литературного творческого процесса может и, пожалуй, должна быть память. Но память, только поймите меня правильно, не хорошая, не точная бумажная или компьютерная, а память как смутное и, следовательно, свободное и энергичное припоминание. Я почти на сто процентов уверен, что великие эпические произведения достигли того, вообще говоря совершенного, состояния, в котором они нам известны, благодаря именно этому смутному припоминанию. Таков, к примеру, Гомер. Или наше «Слово о полку Игореве». Хвала «плохой памяти» как раз в этом смысле заключена в известном казусе с Василием Розановым, назвавшим в одном из своих текстов Чернышевского Николаем Александровичем и настоявшим на таком «неправильном» варианте, вопреки редакторской правке.
Теперь по поводу рассказчика. Я не могу согласиться с вами насчет того, что оный представляет собой некоего вымышленного мной делегата. Это все-таки я сам. Но, естественно, я сам в определенной ипостаси, в известном стилистическом пространстве, в совершенно очевидной по координатам своим точке. Сегодня я, разумеется, нахожусь уже в совершенно ином месте, может быть не столь уж, но все же достаточно далеком от того, «пушкинского».
— Проза, чередующаяся стихами, называется орнаментальной. Она встречается и в западной литературе, но больше всего характерна для Востока: те же сказки тысячи и одной ночи написаны именно в этом жанре. К какому жанру вы относите свою книгу?
— Вы сами довольно точно определили жанр моей книжки. Да, можно сказать, что это орнаментальная проза. Почему бы и нет? Согласитесь во всяком случае, что читается не менее легко, чем арабские сказки! Думаю, такой жанровый выбор для меня не случаен. Я прочел тонны подобных произведений, и больше для удовольствия, чем ради исследовательских целей. Страстно люблю, кроме сказок тысячи и одной ночи, средневековую китайскую крупномасштабную прозу («Путешествие на Запад», «Речные Заводи», «Сон в Красном тереме» — в ряду любимейших книг). Увы, должен признаться, что выучить китайский язык мне так и не удалось. Но у нас была замечательная плеяда переводчиков, начало которой положил великий В.М. Алексеев. Они полностью и с блеском решили завещанные оным переводческие задачи в области китайской средневековой поэзии и прозы.
— Ваша книга мне живо напомнила атмосферу философского факультета 70-х гг., которая ярче всего выражалась в стенной газете «Логос»: юмор, ирония, намеки, розыгрыши, подвохи, литературные мистификации и вместе с тем поиск достоверного, подлинного, неприятие фальши, подделки, официоза. Насколько вы ощущаете себя наследником традиции старого «Логоса»?
— По поводу «Логоса», наверно, я вас разочарую. Не настолько значительным было мое участие в этой замечательной стенгазете, чтобы сегодня претендовать на право «наследника традиций». Хотя, вероятно, какую-то мою связь с университетским, а точнее с духом философского факультета 70-х годов во мне и доныне разглядеть можно. По сей день с теплым чувством вспоминаю о непрерывном шутковании Саши Перцева. В то время часто случались обстоятельства, в которых юмор оказывался чуть ли не единственным спасением. Не как Теркин на войне, но в общем похоже.
— Трудно представить себе более разных поэтов, чем Франсуа Вийон и Александр Пушкин, хотя они видимо легко уживаются в вашем восприятии поэтического. Что, на ваш взгляд, общего между личностями и творческим наследием Вийона (ведь вы его переводчик) и Пушкина, которому посвящена ваша книга?
— Отчего же вы полагаете, что Пушкин и Вийон так уж разительно не схожи? И в главном творческом достижении, и по духу, и по строению личной судьбы они чуть ли не близнецы-братья. Кстати сказать, по поводу смерти Вийона известно еще меньше, чем о смерти Пушкина, а потому тем более нет оснований утверждать что сегодня его уже нет в живых. Франсуа Рабле, между прочим, очень живо рисует в одном из романов великанской эпопеи «дальнейшую судьбу» Вийона. Есть над чем задуматься. Еще одна, и очень важная, черта: Пушкин, так же, как Вийон, обладал точным ощущением собственной превосходности (это отнюдь не отменяло творческих мук и сомнений) и весьма страдал от того, что современники не воздают ему по заслугам из накопляемого ими материального барахла.
— Сегодня романтизм походя осуждают как архаическое мировоззрение. Современными кажутся рационализм и прагматизм. Что для Вас остается ценным в романтизме: приоритет субъективного, неохристианские мотивы, психологизм, гротеск, ирония, символизм? Какое место в творчестве А.С. Пушкина Вы отдаете романтическому началу?
— Романтизм, говоря современным компьютерным языком, сильно поюзанное слово. Настолько, что люди достаточно редко пересекаются в своем движении по его (этого слова) территории. За исключением, может быть, современных рядовых американцев (в смысле граждан США), которые отчетливо сходятся на том, что романтизм — это ужин при свечах, ведущий к страстному и многократному совокуплению в гостиничном номере. Я бы предпочел вообще отложить этот термин.
Лично мне ни рационализм, ни прагматизм современными не кажутся. Рационализм и прагматизм, самыми глубокими корешками уходящие в так называемую эпоху Гуманизма (или Возрождения), наиболее основательно укрепились в мировоззрении Фрэнсиса Бэкона и Декарта, пышным цветом расцвели в философии Канта и многочисленных его в той или иной степени последователей и, наконец, смертельно были подорваны ровно в середине уходящего века взрывами атомных бомб над Хиросимой и Нагасаки. Так что мы давно уж движемся в полосе их упадка. Другое дело, что пока в полной мере осознать этот упадок тяжело. Но близок день, как говорится…
По-настоящему современным мировоззрением мне представляется цинизм, но не в привычном обыденном смысле, как нечто неотрывное от безнравственности, бездуховности и тому подобных гадких маргинальных примет, а в смысле, скорее близком к первоначальному, античному, только, понятное дело, на новом витке. Современный цинизм, а лучше будет — кинизм, или даже неокинизм представляет собой уже развивающуюся и далеко продвинувшуюся в своих разнообразных культурных проявлениях реакцию на предсмертное торжество тех самых рационализма и прагматизма. Хотя, пожалуй, в грядущую новогоднюю ночь еще рановато кричать «Рационализм умер, да здравствует неокинизм!»
Так вот, я себя, пожалуй, готов причислить к неокиникам. А поскольку считаю романтизм эпохи Пушкина (коему он, разумеется, не был чужд) первым сполохом неокинизма, определенная связь и здесь налицо.
В неокинизме как современном продолжении того, от Байрона, романтизма для меня ценно многое, в том числе и некоторые из названных вами вещей. Правда, тут необходимы уточнения и поправки. Но это особая и большая тема для разговора. Скажу только две вещи.
1. Мне не доступен смысл прибавления к христианству (в отличие, как вы успели заметить, от кинизма) частицы «нео», христианство — совершенно не развивающееся, по сути своей догматическое учение, и все попытки его развить, улучшить и приспособить к тому или иному времени — ничто иное, как ересь во всех значениях этого слова, и все такие попытки терпят в истории провал (ересь Лютера, ересь Льва Толстого и т.п.).
2. Ирония буквально на наших глазах пережила в современном искусстве чудесное превращение, выйдя за свои пределы и достигнув состояния метода, не укладывающегося в рамки античного термина. Возможно, и здесь следует говорить о рождении нео-иронии, связанной со своеобразным коллапсом собственно иронического (в первоначальном смысле) начала».
Книга Аркадия Застырца «Я просто Пушкин» вышла в свет летом 1999 г. (изд. «Уральский университет») ничтожно малым тиражом. По этой причине в свободную продажу она не поступала. Жители Екатеринбурга найдут ее в библиотеке им. Белинского.