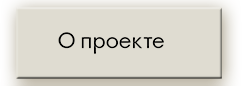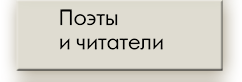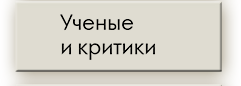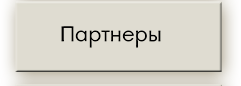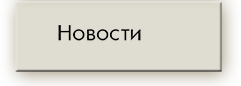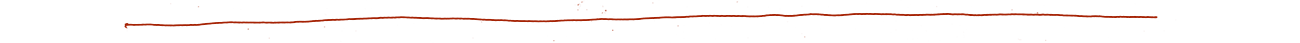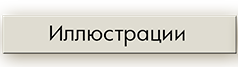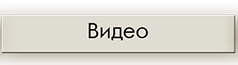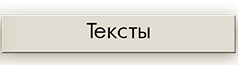Андрей Полонский, поэт, прозаик, переводчик, историк. 4 книги. Живет в Москве и Санкт-Петербурге.
http://www.litkarta.ru/russia/moscow/persons/polonsky-a
ГЛАВА № 95
Художники абсолютно бесполезны, просто их бесполезность красивее, чем польза от большинства людей.
* * *
Смешно говорить, но вернётся кот,
Будет царствовать над нами, как достойный муж,
Выгибать спину, кривить рот,
Запретит американское киноискусство и контрастный душ.
Мальчиков, носящих крысу на плече, он отправит в строй,
Девочек, носящих крысу на плече, он вгонит в сплин,
Один станет средь них – герой,
Другая получит прозвище – Героин.
Оля Героин, Оля Героин, где лёгкие твои шаги,
Подруга юношеских моих дней, подруга червей и пчёл? –
В новой реинкарнации, в сетях городской пурги,
Ангел ещё не проснулся, а демон – ему делать нечего – встал и ушёл.
Ты погладишь кота по спине, нальёшь ему молока,
Он заурчит, станет тереться об ноги, расскажет, как ему нелегко,
Людьми управлять безблагодатно, цель далека,
Его повелительница – далеко.
Представляешь, твой кот серый, урчащий – истинный князь – и пребывает в тоске,
Но не он – создатель мелких каверз и смут,
Ты напишешь об этом воспоминания на отходняке –
Тебя примут, но не поймут.
* * *
Переход к бессмертию, переход
от сомнений к вечности, от свобод
политических к неизбывной, той,
что находится за чертой,
обозначит странности – я и ты,
как вполне раздельные, сквозь чреду
смутных дней прошедшие до черты,
предоставят сведения суду.
Дознаватель примет нас в оборот,
и тебе с три короба про меня наврут,
мол, что я не лучший был и не тот,
о ком плачут в вечности и поют.
Ну и мне расскажут, что ты – не та,
что блудила много, теряя след,
выводящий к истине. Суета,
и жалеть о жизни резона нет.
Пристяжные ангелы – кто мы им? –
только души голые, дунь – и нет,
имена хорошие, остальное – дым,
к голубому берегу горький серый след.
* * *
В диком саду вишнёвом, где спутник твой
вдруг растает, как тень случайного сна,
оглянешься – надёжный, ощутимый, живой,
и настигнет тебя тишина.
Неумолимо она стоит,
в дымы одетая, в скуку ночную и тьму,
вызывая смятенье и стыд,
недоступные изобретательному уму.
Королева всех лабиринтов, приёмных суда,
богиня привокзальных проулков, где нищие спят
у мусорных баков, как попала она сюда,
в твой сон, в твой сад,
в твой город, где ты ходил и хотел любить,
в смешанное общество, где ты время тратил навзрыд,
но иначе не может быть –
она тебя победит.
Она перескажет истории всех племён,
надежды преступников, которые не сбылись,
и после собственных похорон
ты будешь таким же, как все уходящие ввысь.
Уходящие в ночь, как прекрасны призрачность, тени, забывающиеся черты,
свободные от соблазнов и неудач,
над отражением времени, как атрибут высоты,
в небеса поднимается серый и едкий плач.
* * *
Разговоры бессмысленные. На другом берегу ночи, где плещет день,
наши тени об ином говорят, совсем об ином,
в ряду бесконечных зеркал отражается тень
и исчезает днём.
Хочешь, отправимся в страну забытых богов,
где повелитель-сказочник предпочитает уют,
исправим прогнозы, усмирим дураков,
споём колыбельную,
все уснут.
Засыпает глаза песок,
засыпает глаза,
душно, но полнолуние обещает итог подвести,
непременно будет гроза
перемены сжимать в горсти.
Разговоры бессмысленные. Если кто-то умрёт,
сочиним балладу, расскажем, как был хорош.
Живой человек врёт.
Половина слов его – ложь.
Половина жизни его – обман, но зато он живой,
шевелит губами, соединяет слова,
свежая могила зарастает травой,
сочная и густая трава –
отражение смерти, ибо в стране зеркал
что ни день – ночь, что ни ночь – день,
у меня волчий, у тебя змеиный оскал,
слово – выстрел, тело – мишень.
Ты такая острая, как дамасская сталь,
Исаак Сирин, Иоанн Дамаскин
пели небо и иную печаль,
но меж зеркалами и небом вбит клин.
Разговоры бессмысленные. На другом берегу дня,
в доме, который легко разрушает свет,
другая красотка провожает другого меня
и смотрит мне вслед.
* * *
То, что всё было: удачи и неудачи,
город, снег,
ещё не значит,
что прожит век,
что время, тасуя лица,
не наоборот течёт,
что каждый из нас родится
прежде, чем он умрёт.
Послушай, глиняный человечек, сердце выцветших лет,
где у тебя помещаются имена?
Сюжет
запутан, но участь предрешена.
Хвалим праведников – стелется дым,
празднуем наугад
Новый год, Пурим,
Воскресенье, Сошествие в ад.
А потом глиняный человечек спросит: что ты праздновал, брат? –
глиняный человечек, крещённый огнём,
кусок обожжённой глины, вряд ли я виноват,
нагородили город, дышать невозможно в нём.
Хохотнуть, вздохнуть и пойти плясать,
кто-то пьёт коньяк, кто-то тянет мёд,
в наших краях нельзя на своём стоять,
через великую реку благоприятен брод.
* * *
здесь призраки таятся по углам
истории осмеянные мной
бабушкины склянки я выкинул
бумаги сохранил
ещё магнитофонные кассеты с осыпавшимися голосами
Карибское стихотворение
Совсем другой план у них. В тропиках, где жара
И патио, защищающие от жары,
Из всех мужчин лучше всех одеваются мусора,
Таковы правила игры.
Мусора ходят с достоинством, не пьют рома,
Не переругиваются, не окликают красоток,
Прогуливаются по окрестностям втроём, вчетвером,
Обливаются потом.
Но потом нахлынет ветер. Станет трепать пальмы, лозунги, юбки, волосы,
Карты окрестностей, судьбы, стены,
И научит каждого кричать не своим голосом:
«Кто мы? Где мы?»
Где мы, действительно, на этой или на той
Стороне земли, только море, парус,
Сам я мечтал быть рыцарем, стал плейбоем,
Да и вообще, сколько всем нам осталось?
Идеальные герои фильмов для взрослых,
Мусора в тропиках вальяжны, надменны,
Такое впечатление, что они посланы
Встречать хозяина на самую дальнюю пристань Вселенной.
Как раз на этом пляже приземлится космический аппарат,
Хозяин выйдет под стрёкот камер, сбросит пиджак
И расскажет, почему всё не так,
Где он промахнулся, попал впросак.
И его пожалеют, полюбят, поселят у моря в большом дворце,
Поскольку этот пляж – единственное место на свете, где ему почти всё удалось,
И, когда сам он увидит, что происходит с нами в конце,
Мулатка обнимет его, поцелует в шею и скажет:
«Не плачь! Брось!»
* * *
Ну и что? – у тебя спрошу я в итоге.
Ну и что расскажу тебе об Итаке?
Паки и паки, – поём мы о Боге,
Делаем ноги, – орём после драки.
Я хочу делать ноги, руки и вообще человечков,
Но не имею власти, и поэтому надо смириться,
Не проповедовать истины, не ревновать о вечном,
Жить себе прохожим, насмешником, очевидцем.
Но вот проходит мимо – чуть ниже меня, с ногами,
Головой, грудью, задницей, повадкой, походкой, ухмылкой,
Как она сделана, мы и близко и не постигаем,
Хотя надеемся, что легко и пылко.
В городе осень, зима, весна, лето и снова осень,
Под Крещенье – мороз, на Троицу – вёдро и зной,
Куда мы отправимся этим летом? – кто-нибудь когда-нибудь меня спросит,
И я вынужден буду ответить: это уже не со мной.
* * *
В очереди за хлебом,
За молоком, за пивом,
Хотел бы я быть нарядным,
Хотел бы я быть счастливым.
И, предложив подруге:
Пойдем, покурим в постели, –
Ещё от одной услышать:
Я с вами, я тоже в теме.
* * *
Хотелось казаться опасным,
Теперь это просто туфта,
Я был по-своему счастлив,
Не молодость – лепота.
Но в свете нового права
И взрывов в аэропортах
Моя легкокрылая слава
Пропадает за так.
В ходу иные герои,
У них иные личины…
Стремление ходить строем
Оказалось неизлечимым.
Опыт прочтения
О Главе № 95 написано во втором томе «Русская поэтическая речь-2016. Аналитика: тестирование вслепую»: 55, 80, 134, 169, 171, 177, 206, 209, 210, 351, 355, 356, 416, 611, 642.
Отзыв №1
Наталия Черных. ТОЧКА НАСТОЯЩЕГО
http://literratura.org/issue_criticism/3177-nataliya-chernyh-tochka-nastoyaschego.html
Отзыв №2
Романова Анастасия
Поэтике Полонского свойственна полифоничность и легкость в оперировании самых неожиданных стилистик, — ассонансные рифмы, аллитерации, скэтчи, баллады, верлибры, ритмизированные «джазовые композиции», архаический раешный стих, — все это и многое другое как художник краски он без натуги, скорее искрометно, в импровизационной манере, легко смешивает на палитре. Иногда это сложная многоступенчатая мета-форма, иногда – темный мистериальный трип на стыке с богословским текстом, иногда рокенролльный веселый мотивчик на три аккорда или сухой нарратив на грани публицистики и риторики. В базисе этой полифонической структуры – историософское мышление, нонконформизм , христианский живой опыт, а также большое жизнелюбие , которое поэт взял если не за точку отсчета , то за самоироничную позу с трагическим подтекстом.
Отзыв №3
Сергей Ташевский
О книге Андрея Полонского «Где пчелы»
Один из давних поэтических циклов Андрея Полонского, опубликованный еще в начале 90-х годов в журнале «Твердый знакъ», назывался «Письмо вниз, в город». И, как мне казалось тогда, это было почти идеальное название, характеризовавшее его особенную, ни на что не похожую манеру письма. Письма-послания, отправленные сверху вниз. Корреспонденция и читателю, и самому себе. Не с высокомерной какой-то вершины, а с точки общего обзора – к частному, живому. От философских обобщений и споров — к коловращению сансары, к смерти и тому, что ей противостоит. От универсального – к человеческому. Именно это движение (а в большинстве поэтик принято совершенно обратное развитие, ход от частного к общему, от человека к «возвышенному») является своего рода его визитной карточкой, костяком, на котором нарастает мясо стиха.
И это, разумеется, не сконструированная модель, не лекало, по которому делается текст, а естественное продолжение личности автора, для которого жизнь в мире идей и философских концепций является такой же повседневной потребностью организма, как еда, питье, сон, но для которого человек, его телесность, его беззащитность и обреченность – не досадный факт из бренного мира, а центр любой философской ситуации. Поэтому «горняя» часть жизни — не бесплотное знание, не игра со смыслами, а насущная необходимость для человека, живущего на земле. Здесь — вопросы смыслопологания, экзистенциальные вопросы. Их круг очерчен тысячелетия назад, но их надо повторять, повторять в сотый и тысячный раз, чтобы оставаться живыми. Без ответов на эти вопросы думающему человеку не может быть покоя. А с готовыми, общеупотребительными ответами – тем более. Даже религиозный опыт, сколь бы универсален он ни был, провоцирует к поиску иного понимания, к постижению не в долгом последовательном движении по «правильному» пути, а в откровении, мгновенном отчаянном прыжке к истине.
Зазор между поэтикой и личностью автора здесь крайне мал. Те, кто знает Полонского хотя бы по его текстам, уже знают его и как человека. Сложно не заметить важнейшую черту его характера: он ненавидит банальность, не приемлет общепринятые правила игры. Он, как взрывная волна, идет по пути наибольшего сопротивления. Это касается и житейских коллизий, и интеллектуального поиска. И это же относится к его поэтике, где постоянно ломаются рамки привычного представления о стихе. Ломаются и формально, почти физически ощутимо: в рифмованных стихах дольник достигает своих предельных разбегов, когда многостопная, полная плавной раскачки строка соседствует с короткой как удар замыкающей. Именно особый ритм, который формируется и размером, и семантическими полями слов, делает эти стихи узнаваемыми с первой же строфы. Ритм и смысл. Это не значит, что в стихах Полонского нет звука, но в них нет того сладковатого опьянения словом, который характерен для многих даже очень ярких поэтов, варящих из слов магический отвар. У Полонского слова – без шелухи, они стремятся в мир архетипов, им не нужно упиваться собственным звучанием. Звук рождается на стыке, в ритмическом рисунке, проступает в очищенных от всего лишнего корнях слов.
Уже не раз говорилось, что стихи Полонского с легкостью «ложатся» в циклы, и обретают новое дополнительное измерение в соседстве друг с другом. Но это не «лирический дневник» в общепринятом понимании, хотя хронологическая связь и привязка текстов к определенным событиям здесь тоже может иметь место. Скорее это философский роман в стихах, где героем является не автор, а те самые «вечные» вопросы отношений между человеком и мирозданием. Составленные в циклы, стихи как бы формируют внутренний сюжет некого более обширного произведения, фабулой которого является человеческая жизнь. Поэтому, при всем разнообразии форм стиха, от коротких раешников до чистого верлибра, циклы формируют свои, почти «романные» пространства, внезапным образом соединяя самые мощные инструменты этих двух предельно различных литературных жанров. Вот почему книги Полонского лучше читать «насквозь», целиком.
Книга «Где пчелы», на мой взгляд, в этом смысле самая удачная, и этапная для Полонского. В нее вошли в основном стихи последних пяти лет, «питерского» периода, и одна из линий прослеживает роман человека и города. Хотя это лишь одна из нитей в плотной ткани текста, она очень важна. Человек меняется, город для него уже не «внизу», он входит в его историю, в его легенду, сам становится ее частью. И в стихах возникает все больше людей со своими историями и судьбами, от продавщицы с Удельной до старого латыша на границе… «Я говорю только о том, что было со мной» — подчеркивает Полонский в первом же стихотворении, открывающем книгу. Но выход за пределы «я» , поиск оправдания своей и чужих жизней проходит тут от текста к тексту.
Эта перемена, без сомнения, отрефлексирована автором. Циклы, на которые разбит сборник, формируют его главное «внутреннее» сюжетное пространство, и названы, как и сама книга, нарочито повествовательно, словно речь идет о давно обозначенных темах в диалоге: «Документальное кино», «Лучшие времена так и не наступили», «Большие маленькие люди», «Отвратительный тип», «Безо всякого сожаления». Но первый из них несомненно отсылает к теме письма, которая вспомнилась в начале этой заметки. Он озаглавлен: «Только ответ».
Ответом, а не вопросом является и название книги «Где пчелы», она своего рода жужжащий улей, звенящий полифонией бытия. “…Но вокруг нарастает гул голосов…” – сказано об этом в одном из стихотворений, в самой сердцевне книги, и это, как мне кажется, наиболее точное определение современной, сегодняшней поэтики Андрея Полонского. Она неразрывно связана с тем, что писалось четверть века назад, просто монолог (или – во множественном числе — монологи лирических героев) превратился в диалог, обогащенный обращением к иному “я”. Однако, как и прежде, в стихах Полонского, в их героях, мы обнаруживаем еще одну ипостась автора, его не-состоявшиеся жизни, его сад расходящихся тропок. И этот сад выглядит тем прекрасней и прельстительней, чем меньше остается времени для земного хронометража.
Да, Полонский жадно любит жизнь, но не как обычный гедонист, потребитель наслаждений и приключений, а как художник, для которого каждая деталь необходима для создания единого осмысленного полотна. Поэтому в своей любви к жизни он не делает больших различий между жизнью своей и чужой. Книга “Где пчелы” – одна из попыток создать такое полотно. Свидетельство о человеке, эпохе, о воздухе времени. И диалогическое построение многих текстов в книге, их “разговорная” интонация – важнейший стилистический ход, заставляющий воспринимать их вне парадигмы традиционной поэтики с ее “лирическим героем”. Тут ясно очерчен абрис новой поэтики, где “единственно возможные слова в единственно возможном порядке” выходят из привычного лирического пространства, которое принято считать областью поэзии, и ведут к иному, не-гуманистическому гимну человеку. Гимну, первые ноты которого прозвучали когда-то в державинской строфе на невских берегах: “Я телом в прахе истлеваю / Умом громам повелеваю…”. И это еще один диалог, которым заканчивается книга: “Чтобы прекрасный ангел / Позавидовал еще раз / Нагой и бессмысленной участи / Нагих и бессмысленных нас”.
———————————
Вы можете написать свою рецензию (мнение, рассуждения, впечатления и т.п.) по стихотворениям этой главы и отправить текст на urma@bk.ru с пометкой «Опыт прочтения».