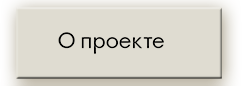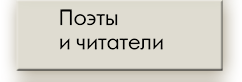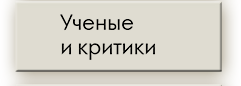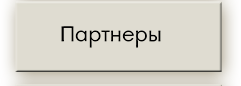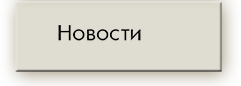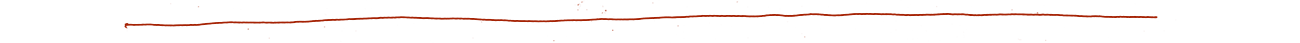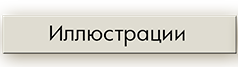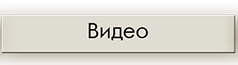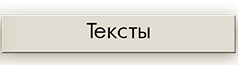Юрий Казарин — поэт, лингвист, профессор филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Живет в Екатеринбурге.
В депозитарии УПШ: http://mv74.ru/upsh/yurij-kazarin.html
ГЛАВА № 3
Мысли о смерти должны стать содержанием жизни. Ведь только из страха можно извлечь смелость. Радость жизни не противоречит радости смерти: просто жизни радуемся мы, а смерть радуется нам.
* * *
Ты помнишь всё – и это мне приснилось:
Какое небо мимо проносилось –
и взгляд отвесный гнулся, как весло.
Твоё лицо в моём не отразилось,
но, словно стужа, – в дождь, в него вросло.
И речь травы от инея немела,
и птичья лапка трогала висок,
в ладонях ветра дерево шумело
и в снегопад струилось, как песок…
* * *
Видишь, средь бела дня,
всюду со мной родная
тьма. Это часть меня,
самая земляная.
Болью отброшена
вся от меня в полёте –
вся на земле, она
вся без души и плоти.
Не узнаю лица
я своего, не знаю:
всё, что останется, –
тень, только тень сквозная.
Вся без меня почти.
Тьма в темноте. Немое
гаснет лицо в горсти,
выпитое не мною.
* * *
Синички с веточки за семечком –
к столу садовому, где мы
следим за временем и времечком,
вернувшись в осень из зимы,
где снег расселся по скамеечкам
и сыплют сажу на холмы
печные горькие дымы.
* * *
Кончается водка.
В окне синева.
Четвёртая ходка –
таскаю дрова.
И валенки легче
ресницы в вине.
Синички на плечи
садятся ко мне –
и снежные речи
от речи далече
молчат тишиной в тишине…
* * *
Смотри на сад, смотри на свет –
январь, листок недоопавший,
на ветке панцирь черепаший,
в нём пустота, которой нет.
Смотри – душа, ей триста лет –
старушка-девочка с папашей,
вернувшимся на этот свет.
И снег под валенком – вослед
всему – молчит над жизнью нашей.
* * *
Это слёзы и синица,
взгляд вытягивает птица –
зимний день и ночью длится…
Посмотри, как ходят эти
переходные глаголы:
птицы, ангелы и дети
возвращаются из школы
к деревянному теплу.
Помнят валенки метлу…
* * *
Не валенки, а каблуки
скулят в сугробе от тоски.
Не плачьте – слёзы глубоки
у коченеющей реки.
Она висит на волоске
седом у неба на виске,
себя сжимая в кулаке.
Она в хрустальном сундуке –
и ходят дети по реке,
и долго слёзы из реки
на леске тянут рыбаки.
* * *
Сколько зренья, сколько слуха
выпьет с голосом погода –
стужу плоти, ужас духа
от рожденья до ухода.
Сколько снега, сколько тверди
в обмороженной отчизне –
это жизнь в ладонях смерти,
это смерть в ладонях жизни.
Сколько песни в каждом стоне –
и любовь берёт в ладони
перезябшие ладони
у любви на снежном склоне.
* * *
И вышел в небо из подвала
дохнуть морозца в вышине.
Пока душа во мне шептала,
как было страшно ей во мне.
Она светилась и скользила
сквозь снег высокий вдоль стекла…
Когда она меня убила –
и от себя уберегла.
* * *
В темноте растёт ресница,
темнота себя боится –
всё не так и всё не то.
И распахнуто пальто –
не пальто, а решето,
а в прохожем отразится –
отражается никто:
тень отбрасывает мимо
бога, боли, бытия
крепче смерти, твёрже дыма –
неужели это я…
* * *
Водка в небе. Солнце в сумке.
На берёзе, боже мой:
чёрно-белые рисунки –
очи вечности самой.
Прислонились небосклоны
к белой саже бересты,
и текут в глаза иконы
жизни, смерти, пустоты –
первой, страшной красоты.
* * *
Всюду голос снегопада:
в голове моей цикада –
научилась кровью петь.
Главное – не умереть
и дослушать в безднах слуха
царский цокот леденца –
силой снега, силой духа –
до конца.
* * *
Что происходит… – Кричит вороньё.
Дело житейское – смерть. У неё
тёплое тело твоё.
Пусто, как в небе. И в горле темно.
Видишь за дождиком: все и давно
мимо перроны проехали, но
поезд остался и в поле стоит.
Бродит по шпалам слепой инвалид.
Время болит…
* * *
Дождь – это чудо: моя слеза
попадает в твои глаза,
словно море развеяно в свет –
солонее на свете нет,
это нежная боль, яко посуху снег
чистым богом идёт из-под век.
В человеке заплачет другой человек,
состоящий из красных рек.
Вздрогнет бог – и стоит как снег.
* * *
Играет чайной ложкой мышка.
Сама себя листает книжка –
по-итальянски говорит
то нарастяжку, то навзрыд,
но шёпотом – хозяин спит.
А в доме тесно и темно,
глаза себя страшатся, но
просторно тишине морозной,
где сердцем бездны коматозной
встаёт с крестом в груди окно.
* * *
Снежную поцелуй версту,
сердцем вросшую в высоту.
Песню расскажешь, опять не ту:
холодно у зимы во рту.
Поцелуешь себя, и речь
продолжает мерцать оплечь,
чтобы инеем завтра лечь
на крылеч…
* * *
Куда влекут, вращаясь в никуда,
шарообразно, к солнцу, из тороса
велосипедные колёса
в себя распахнутого льда:
объятье льда, разъём ресниц и взгляда,
уколы спиц, разъятье глаз
и призраки слезы и снегопада,
воды, втекающей в алмаз…
Сегодня речка рвёт колокола,
душа болит и тесно ледоходу…
Смотри, вот – смерть: она уже прошла,
и видно воду.
Опыт прочтения
О Главе № 3 написано во втором томе «Русская поэтическая речь-2016. Аналитика: тестирование вслепую»: 80, 178, 182, 189, 202, 205, 206, 208, 209, 231, 327, 334,
364, 366, 409, 427, 428, 458, 530, 537, 560, 597, 611, 613, 635, 636,
642, 645–646.
Отзыв №1
Михаил Придворов, поэт.
Я — читатель. Я случайно открыл эту главу. Я не знаю имени автора, Не владею правильным литературным языком и
не являюсь критиком. Заранее прошу прощения за резкость оценок и злобность. И хорошо, что не знаю автора,
иначе бы смягчил, соврал и умолчал.
Неизвестный мне автор кокетлив, моден и актуален.
Над смертью можно смеяться, её можно ненавидеть, любить, не замечать. Но вот такое:
«а не написать мне что-нибудь о смерти» — выглядит как-то нелепо. Почему так? Потому, что
автор не смог выточить из драматизма заданной концепции ту острую грань (между жизнью
и смертью), которая должна была ну не порезать, так хотя бы оцарапать читателя.
А не удалось это по причине слабости формы и инструментов.
Уже первое стихотворение вызывает подозрение об авторстве подростка, но не изрядно пожившего
мастера:
Ты помнишь всё – и это мне приснилось:
Какое небо мимо проносилось –
и взгляд отвесный гнулся, как весло.
Твоё лицо в моём не отразилось,
но, словно стужа, – в дождь, в него вросло.
И речь травы от инея немела,
и птичья лапка трогала висок,
в ладонях ветра дерево шумело
и в снегопад струилось, как песок…
приснилось — проносилось — отразилось — немела — шумело
Ладно, примем это за нарочитый наив. Мол, дальше жахнет так, что мало не покажется.
«и взгляд отвесный гнулся, как весло.» — образ гнущегося весла внушает. Все мы помним из
детства ГНУТЫЕ, триремные на пять гребцов, деревянные весла. Или речь идет об алюминиевом
вёселке от резиновой лодочки?
Тогда не внушает. Нет.
Далее сделаем вид, что не заметили «почти-горсти»
и «выпитое лицо» — выпитое уже многими поколениями поэтов. Что поделать.
Пьют наши поэты.
«Синички с веточки за семечком –
к столу садовому, где мы
следим за временем и времечком,
вернувшись в осень из зимы,
где снег расселся по скамеечкам
и сыплют сажу на холмы
печные горькие дымы.»
Будем надеяться, что это стихотворение-сателлит, передающее вращение
между другими нагруженными текстами.
Кончается водка.
В окне синева.
Четвёртая ходка –
таскаю дрова.
И валенки легче
ресницы в вине.
Синички на плечи
садятся ко мне –
и снежные речи
от речи далече
молчат тишиной в тишине…
Тут автор валенками с водкой начинает намекать о возрасте. Мол, не просто так он размышляет
о смерти, как смысле жизни. Синички для сентиментальности. Все как в жизни.
Смотри на сад, смотри на свет –
январь, листок недоопавший,
на ветке панцирь черепаший,
в нём пустота, которой нет.
Смотри – душа, ей триста лет –
старушка-девочка с папашей,
вернувшимся на этот свет.
И снег под валенком – вослед
всему – молчит над жизнью нашей.
Валенок, повешенный на стену в начале акта, стреляет буквально сразу и очередями.
Валенки — символ старости, образ смерти. Это очевидно.
«Надел валенок — выкупи место на кладбище!»
«Коли валенки надел — в глаза смерти поглядел»
По стихам бродят рано постаревшие школьники, обметают валенки и готовятся к смерти.
Автор тоже быстро вырос и состарился.
Не валенки, а каблуки
скулят в сугробе от тоски.
Не плачьте – слёзы глубоки
у коченеющей реки.
Она висит на волоске
седом у неба на виске,
себя сжимая в кулаке.
Она в хрустальном сундуке –
и ходят дети по реке,
и долго слёзы из реки
на леске тянут рыбаки.
Добавляя слово «седой» даёшь +50 к возрасту. Чтобы читатель не сомневался.
Немного пафоса, патриотизма, зренья, слуха-духа, выпить и …
Сколько зренья, сколько слуха
выпьет с голосом погода –
стужу плоти, ужас духа
от рожденья до ухода.
Сколько снега, сколько тверди
в обмороженной отчизне –
это жизнь в ладонях смерти,
это смерть в ладонях жизни.
Сколько песни в каждом стоне –
и любовь берёт в ладони
перезябшие ладони
у любви на снежном склоне.
«Вышел месяц из туман
Вынул ножик из кармана…» прошу прощения:
И вышел в небо из подвала
дохнуть морозца в вышине.
Пока душа во мне шептала,
как было страшно ей во мне.
Она светилась и скользила
сквозь снег высокий вдоль стекла…
Когда она меня убила –
и от себя уберегла.
Душе было страшно в гг. Она об этом шептала. т.е. гг слышал голоса.
Потом он вышел из подвала на морозец, подышал и умер. Нехорошо получилось.
Далее у нас конь в пальто, ресница в темнице себя боится.
Владимир Семенович подсказывает: «всё не так, все не то» .
В темноте растёт ресница,
темнота себя боится –
всё не так и всё не то.
И распахнуто пальто –
не пальто, а решето,
а в прохожем отразится –
отражается никто:
тень отбрасывает мимо
бога, боли, бытия
крепче смерти, твёрже дыма –
неужели это я…
Не сомневайся, братец. Это ты. Потому что уже и:
Водка в небе. Солнце в сумке.
На берёзе, боже мой:
чёрно-белые рисунки –
очи вечности самой.
Прислонились небосклоны
к белой саже бересты,
и текут в глаза иконы
жизни, смерти, пустоты –
первой, страшной красоты.
В теме неожиданно появляется женщина. Откуда взялась — не понятно. Зачем — понятно. Для рифмы на «ё».
Что происходит… – Кричит вороньё.
Дело житейское – смерть. У неё
тёплое тело твоё.
ГГ наконец умер, выпадает дождём на появившуюся женщину, после чего
женщина исчезает.
Дождь – это чудо: моя слеза
попадает в твои глаза,
гениальная рифма «слеза — глаза» вызывает слезу.
В человеке заплачет другой человек,
состоящий из красных рек.
Вздрогнет бог – и стоит как снег.
…
Поцелуешь себя, и речь
продолжает мерцать оплечь,
…
Не совсем понятно что или кто стоит, но это уже не важно, потому что гг не совсем умер. Он спит.
Спит себе старичок, целует себя оплечь, или это речь мерцает, или разум…. не понятно.
Но тут и мышка с ложкой, и книжка итальянская. И надо всем этим встает с крестом в груди
сердцем бездны коматозной окно.
И вот, дождались наконец. Пришла. Смерть.
Куда влекут, вращаясь в никуда,
шарообразно, к солнцу, из тороса
велосипедные колёса
в себя распахнутого льда:
объятье льда, разъём ресниц и взгляда,
уколы спиц, разъятье глаз
и призраки слезы и снегопада,
воды, втекающей в алмаз…
Сегодня речка рвёт колокола,
душа болит и тесно ледоходу…
Смотри, вот – смерть: она уже прошла,
и видно воду.
Я понял, что хотел сказать автор. Композиционно тексты намекают, но
попытка метафоричного общения с читателем выглядит неуклюжей, надуманной.
Слова не складываются в образы, потому что они подобраны случайно. Для удивления,
но не завершения пресловутого образа. Более того, возникают параллельные трактовки и случайные
двусмысленности.
«разъём ресниц и взгляда,
уколы спиц, разъятье глаз»
«Снежную поцелуй версту,
сердцем вросшую в высоту.
Песню расскажешь, опять не ту:
холодно у зимы во рту.»
«В человеке заплачет другой человек,
состоящий из красных рек.»
Читаешь и шарахаешься, вместо того чтобы впечатлиться. Плюс, неловкие, откровенно слабые рифмы,
банальности и какие-то случайные слова.
Не получилось рассказать о смерти, как содержании жизни. Не получилось рассказать о жизни. Не получилось.
Ну и валенки.
Отзыв № 2:
Татьяна Пухначева, кандидат физико-математических наук, Новосибирск, автор второго тома РПР-2016.
О двух стихах главы три
Ты помнишь всё – и это мне приснилось:
Какое небо мимо проносилось –
и взгляд отвесный гнулся, как весло.
Твоё лицо в моём не отразилось,
но, словно стужа, – в дождь, в него вросло.
И речь травы от инея немела,
и птичья лапка трогала висок,
в ладонях ветра дерево шумело
и в снегопад струилось, как песок…
Да что же это разговор идет все о форме и о формальностях! А ведь у этого стиха, например, интересно именно содержание. Попробуем внимательно всмотреться в слова и строки.
Речь идет о событиях явно неординарных. Весь текст наполнен большим напряжением: небо проносится, взгляд гнется, трава немеет, дерево шумит и струится. Активное движение практически в каждой строке. Интересно, что независимо от того, само ли небо уносится от героев, или это они в полете проносятся сквозь небо, смысл почти не меняется. Как небо, так и полет содержат в себе понятие превосходства и силы. И это обладание силой явно утрачивается, оно уносится «мимо». Отвесный взгляд (обладанием знанием или просто обладание) резко направлен вниз, это падение. Яростное сопротивление падению выражено в гнущемся весле. Весло – это знак силы, умения и знания. Движение и управление – вот его основные функции, и они уже практически невыполнимы. Лицо (индивидуальность, направленная вовне) не отразилось, то есть не двинулось «от», оно соединилось в единое целое с другим лицом. Чем иным это может быть как не укреплением прочности? Дождь, текучая субстанция, при врастании в него стужи (замерзании), превращается в твердую сущность. Лицо второго персонажа стало единым и неразделимым, дождь из множества капель превратился в единое целое, о чем это? Напряжение столь сильно, что возникает опасность разрушения, ситуация почти безнадежна. Лицо, вросшее в другое, тоже потеряло себя, хотя и обрело дополнительную крепость. Дождь из благотворной живородящей влаги превратился в нечто твердое и холодное. Хотя и приобрел твердость, но вместе с тем разрушен прежний смысл и получен противоположный.
Собственно говоря, в следующих строках разрушение продекларировано. Тихий шепот, или речь травы (движение вовне), нарушен. Замерзшая трава затвердела. Интересна строка про птичью лапку. Уже появление травы говорит об уменьшении размеров, понижении пространства (трава-то точно находится не в небе). Наша птица не может быть большой, ведь у нее не лапа, а лапка. Это тоненькая сухая лапка-палочка, которая осторожно, чуть-чуть, прикасается к виску. И вот эта малость всего, и предметов и движения, действуя по закону инверсии «как молнии искра по громоотводу», приводит к столь непереносимому напряжению, что пространство разрушается. Оно превращено в ветер, в шум, в песок. Это настолько эфемерные субстанции, что они почти не существуют.
А ведь с какого полета все начиналось…
И совсем немного про еще одно стихотворение.
Синички с веточки за семечком –
к столу садовому, где мы
следим за временем и времечком,
вернувшись в осень из зимы,
где снег расселся по скамеечкам
и сыплют сажу на холмы
печные горькие дымы.
На первый взгляд – какая милая картинка. Очень много ласковых и уменьшительных слов: синички, веточка, семечко, скамеечка. Особенно примечательно редко употребляемое времечко. Нарисована такая компактная, маленькая картинка. Но почему не хочется назвать ее уютной? Настораживает слежка за временем, которое противопоставлено времечку, да и за самим времечком тоже следят. Там, в зиме, время настоящее. А здесь в осени и в саду времечко искусственное. Осень по отношению к зиме является прошлым, она же предшествует зиме. А при возврате в прошлое ничего хорошего, кроме его переоценки, обычно не случается. И особенно мешают считать эту картинку уютной и благостной две последние строки. В зиме как раз не очень уютно. Холодно, скамейки покрыты снегом, все это знаки забвения и отрешения. Холмы засыпаны сажей (так и хочется сказать – пеплом). И еще такой грустный знак, как печные дымы. Почему знак грустный – так ведь дымы прямо названы горькими.
Отзыв № 3:
Надежда Болтачева
Понимаю, что мне с моим химическим образованием не место здесь, но прочитав стихи анонимного автора и отзыв поэта Михаила Придворова, решила сказать пару слов. Поэт Михаил Придворов верно заметил: «автор не смог выточить из драматизма заданной концепции ту острую грань (между жизнью и смертью), которая должна была ну не порезать, так хотя бы оцарапать читателя». Мне кажется, что анонимный автор вообще не думает о читателе (есть такие), поэтому его стихи вряд ли войдут в моду, станут актуальными.
Назвать мастером автора язык не поворачивается. Это не мастерство. Это поэзия – материя тонкая, неуловимая. Иными словами – это вещество, которое невозможно увидеть. Его можно только почувствовать.
Я занимаюсь тонким органическим синтезом: работаю с материей, с веществом. Органическая материя – уловима. Органическое вещество можно «увидеть», используя спектральные методы. Можно даже получить фотографию молекулы (взаиморасположение атомов и связи между ними), если кристаллы вещества пригодны для рентгеноструктурного анализа.
Стихи, однозначно, мужские (мне редко нравятся женские). С первой же строфы чувствуешь, что-то произошло (взлёт «от быта к бытию»). И раньше замечала, читаешь некоторые стихи – что-то тайное, космическое происходит в душе, в сердце… Переход в иное состояние, в иной мир. Что это за мир? Мир стихотворения, мир автора, горний мир? Образуется контакт по типу водородной связи (между атомами водорода и кислорода соседней молекулы)… Сразу понимаешь, это твой автор. Твой мир. Чужие здесь не ходят.
Подборка анонимного автора – это поэтический текст. Если рассматривать поэтический текст как вербальный осмысленный материал (существительные, прилагательные, глаголы, числительные, строки, буквы…), возникают «гнущиеся вёсла», «по стихам бродят рано постаревшие школьники, обметают валенки и готовятся к смерти», месяц выходит из тумана, ну и Владимир Семенович, в конце концов…
Поэт Михаил Придворов в недоумении: «В теме неожиданно появляется женщина. Откуда взялась — не понятно. Зачем — понятно. Для рифмы на «ё».
Что происходит… – Кричит вороньё.
Дело житейское – смерть. У неё
тёплое тело твоё.
Эта женщина – смерть. Смерть нашего образования, языка, культуры…
Я думаю, о стихах анонимного автора можно сказать так: «Стихотворения имеют некий смысл — смысл, который определенно нельзя уловить посредством простого “прочтения”» (Пауль Целан) или вот так: «Настоящая поэзия не в словах — слова разве заполняют ее…» (Иннокентий Анненский).
Каждый человек по-своему воспринимает стихи. Но для восприятия поэтического текста помимо разума и души, мне кажется, нужен ещё и опыт читателя. Я люблю стихи классиков и современников: Александра Блока, Осипа Мандельштама, Арсения Тарковского, Владимира Набокова, Дениса Новикова, Александра Кушнера, Феликса Чечика и др. Каждый поэт вносит свежую струю, оживляет мышление, царапает душу. Читая стихи, не только очеловечиваешься, обретаешь иное зрение. Смотришь в небо, но твёрдо стоишь на земле.
Не сомневаюсь, именно читательский опыт позволяет мне «говорить на одном языке» с анонимным автором, видеть в его стихах одновременно красоту и ужас; жизнь, смерть и любовь.
И речь травы от инея немела,
и птичья лапка трогала висок,
в ладонях ветра дерево шумело
и в снегопад струилось, как песок…
Да вот же она – неуловимая материя!
И валенки легче
ресницы в вине.
Синички на плечи
садятся ко мне –
и снежные речи
от речи далече
молчат тишиной в тишине…
Вот оно – незримое вещество, которое можно только почувствовать:
Смотри на сад, смотри на свет –
январь, листок недоопавший,
на ветке панцирь черепаший,
в нём пустота, которой нет.
Ещё одно замечательное стихотворение из подборки анонимного автора:
Всюду голос снегопада:
в голове моей цикада –
научилась кровью петь.
Главное – не умереть
и дослушать в безднах слуха
царский цокот леденца –
силой снега, силой духа –
до конца.
С первой строки становится жутко. «Всюду голос снегопада». Это ли не ужас?
Иное зрение даёт возможность видеть (чувствовать) и то, что «остается вне текста…». «Связь всего со всем».
На берёзе, боже мой:
чёрно-белые рисунки –
очи вечности самой.
Прислонились небосклоны
к белой саже бересты,
и текут в глаза иконы
жизни, смерти, пустоты –
первой, страшной красоты.
В органической химии всё связано со всем: физические тела состоят из веществ, вещества состоят из молекул, молекулы – из атомов и т.д.
А как мои вещества кристаллизуются из растворов! Это надо видеть.
Ни для кого не секрет, все великие поэты пишут об одном и том же: о жизни, смерти и любви. Великие стихотворцы затрагивают социальные проблемы, пишут о политике, о войне на Украине, о гибели людей (пожар, катастрофа, взрыв и т. п.). Не спорю, все перечисленные темы являются модными и актуальными. Однако к поэзии такие стихи не имеют никакого отношения. Поэзия и литература – это два разных понятия. Раньше я не знала об этом…
На вкус и цвет товарищей нет. У каждого человека есть любимые поэты, любимые стихи, которые близки и понятны ему. Но остаются стихи, трудные для понимания. Откуда это непонимание? Из-за разницы мировоззрений или от нежелания понять? Непонимание искажает картину мира, приводит к тому, что пропадает интерес к этому миру, к жизни…
И всё же, почему мне нравятся стихи анонимного автора? Не могу ответить однозначно. Может потому, что возникает желание поговорить с ним. Например, о смерти…
У химиков есть простое правило: подобное растворяется в подобном. А что! Пустота (тьма) – универсальный растворитель (царская водка с ней рядом не стояла).
Она (пустота) растворяет абсолютно всё…
P.S. Заранее извиняюсь перед автором стихов. Приношу свои извинения поэту Михаилу Придворову. Никого не хотела обидеть.
________________________________________________
Вы можете написать свою рецензию (мнение, рассуждения, впечатления и т.п.) по стихотворениям этой главы и отправить текст на urma@bk.ru с пометкой «Опыт прочтения».