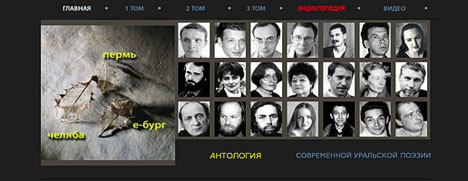Кальпиди
В. Кальпиди. Запахи стыда: Книга стихов. — Пермь: Издание фонда «Юрятин», 1999.
И занятия любовью, и сказывание историй требуют гораздо большего, чем хорошая техника, но рассуждать мы можем только о технике.
Дж. Барт
…Причем более о технике рассуждения о сказывании историй, нежели о технике сказывания как такового или – еще глубже и сложнее – самой истории.
Техника же рассуждения в нынешней культурной ситуации сводится к аналитико-деструктивному, а не сочувственно-катарсическому прочитыванию текста. Сочувствие подменено выявлением аллюзий и скрытых цитат с целью дешифровки смысла, но не его понимания.
Техника же сказывания историй, то есть структура данного поэтического высказывания, и есть, собственно, предмет нашего рассуждения1. Сама же История, проявляющаяся исключительно в своих сказываниях, может быть исследована и обсуждена не напрямую, а лишь метафорически. Иными словами, нам доступно отражение предмета, но не сам предмет, и даже не столько его отражение, сколько стекло зеркала.
Стекло – вернее, его атрибут, твердая, более преграждающая, чем приглашающая прозрачность, – стало одним из центров поэтической системы Виталия Кальпиди:
В первый день воскрешения боль обласкает тебя,
Ибо ты босоногим пойдешь по стеклу облаков.
(«На земле нарисована пыль и немного травы…»)
Так к «стеклу» прикрепляется «облако», вместе они соотносятся с «болью»–«воскрешением»–«лаской». Смысл этих соотношений открывается при анализе собственно литературных аллюзий Кальпиди, возникающих и функционирующих по весьма характерной для современной культуры причине-закону, сформулированной ниже.
«Прозрачность» как соотношение между способностью и (не)возможностью зрения может менять свою степень в зависимости от способа видения мира – прямого или, по выражению Кальпиди, «искривляя глаза» («В конечном итоге все падает прямо туда…»). «Прозрачность» стекла ассоциируется со «словесностью» слова как соотношения между потребностью и возможностью выражения. Слово, связанное уже не столько со своим смыслом, сколько с традицией употребления, отражение без предмета, становится барьером с неизвестной степенью прозрачности, отделяющим восприятие от мира:
На земле нарисована пыль и немного травы,
на деревьях написано твердое имя – «кора»,
и висит синева в исполнении не синевы,
а прозрачного воздуха, что непрозрачен с утра.
Подобное смещение восприятия-воспроизведения является не ложью (или весь наш язык ложен), но случаем предельной метафоризации, доведенным до логического абсурда приемом (который и обеспечивает существование языка) обозначения первого и первичного через иное.
Таким образом в системе Кальпиди все приобретает не только переносное, но прямо противоположное ожидаемому значение. Связь с речевой традицией через ее отрицание превращается в своеобразный «лингвистический нигилизм» (даже название сборника – пример «невозможного», абсолютно неожидаемого сочетания слов2). Связь с прошлым и зависимость от него так или иначе присутствуют в современной культуре: пусть в форме отрицания и даже уничтожения. Поэтому на фоне «лингвистического нигилизма» Кальпиди возникает сеть аллюзий и скрытых цитат, более сложных по своей природе, чем простое разрушение традиции; прошлое, принятое и приспособленное поэтом к своей художественной системе…
В первую очередь это XIX век. Наиболее активно Кальпиди эксплуатирует Н. В. Гоголя – миф о летаргии, воскресении и «второй» смерти писателя (в гробу), а также – наиболее часто и подробно – «Ревизора». Затем – сложные отношения с А. С. Пушкиным, одно упоминание «Обломова» И. А. Гончарова (которого мы коснемся в финале), «И плавала Офелия»3.
Жизнь, соотносимая через воскресение со смертью, является одним из основных сюжетных мотивов Кальпиди и – в системе метафорических смыслов текста – обозначает (скорее, ограничивает и указывает, нежели придает значение) словесное искусство и связывает его с пророчеством и одним из атрибутов пророка, истиной:
Пророк от предсказателя почти
неотличим по жестам, но стыдоба
пророчества, как истина, торчит,
как гоголевский нос торчал из гроба.
(«И плавала Офелия». // «Черная запись»)
Так атрибутом «истины» становится стыд, «стыдоба». Причем, «истина», скорее, постыдна, чем стыдлива. «Гоголевский нос» ассоциируется не только с одноименной повестью, но вообще с гоголевской фантастикой в целом («истина фантастична»?!). «Из гроба» – так появляется уже упоминавшийся биографический миф о смерти Гоголя. Связь с «Ревизором» (помимо достаточно частых текстуальных намеков: «Геометрически равны, не стану лгать, все сорок тысяч братьев тем курьерам (которых было тысяч тридцать пять?..[SNOSKA ]»И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!»[/SNOSKA) – «И плавала Офелия»; стихотворение «Подружка Хлестаков» и т.д.) утверждается еще и самой манерой поэтического высказывания Кальпиди, той самой «легкостью необыкновенной в мыслях»:
Иван Алексаныч, любезна и мне
та лёгкость, с какой чепухарий
растёт в насекомой твоей голове…
(«Подружка Хлестаков». // «Желтая запись»)
Именно эта «легкость» становится наилучшим обозначением не только вольного обращения с предыдущей литературной традицией и речевой привычкой, но и самого способа поэтического высказывания Кальпиди – не случайно и завершается сборник стихотворением «Подружка Хлестаков», своеобразной квинтэссенцией этой игры.
Такая легкость поэтического бытия отсылает уже не только к Гоголю и его «Ревизору», но и к Пушкину:
Ты соображаешь туго,
но поверишь даже ты,
что, попивши друг от друга,
отвалились как клопы,
в бронзу – лучший борзописец,
в переплёты – восемь строк.
(«Вампиры позорной Челябы». // «Черная запись»)
Поэтическое творчество не только демонизируется (стихотворение это ритмически и цитатно соотносится с «Зимним вечером» и – в большей степени – с «Бесами» Пушкина: «Ночь мутна, и кровь недлинно / начинается во тьме, / как пакетик ванилина / надрывая сердце мне»), но высмеивается и дискредитируется (поэт и поэзия, «попивши друг от друга, отвалились, как клопы»; Пушкин – «лучший борзописец»).
Снижению и высмеиванию подвергается не только творчество, но и любовь:
<...> внучатый Ганнибал
<...> восемь строчек намарал.
Ты читала их: «…так нежно…
не хочу печалить вас…»,
снизу рифма «безнадежно»
безнадежна столько разъ
сколько будет вылупляться
сбросив «бездну», из нее
слово «нежно» вместо «блядство» –
так-то, горюшко мое.
(«Вампиры позорной Челябы». // «Черная запись»)
Однако «любовь» интертекстуально связана не только с Пушкиным, но и с «Обломовым» Гончарова, ассоциируясь с его обыденной, бытовой, то есть уже сниженной, эпичностью; и это снижение, обыденность возвышенного, доведено у Кальпиди до завершения – до дискредитации и исчезновения данной категории бытия:
Из романа «Обломов» в Челябу вплывает любовь,
даже мальчик беззубый срифмует её без труда.
Позабыв логопеда, он крикнет: «Да здравствует кловь!», –
на которой, добавлю, написано имя – «вода»
(«На земле нарисована пыль и немного травы…»)
Кровь, обозначающая воду, образующая банальную рифму и превращающаяся потому в суррогат, в «кловь», наглядно представляет отношение поэзии к реальности: реальность, творимая поэзией, вытесняет естественный, нетварный мир («На земле нарисована пыль…»), но не может стать полноценной основой бытия, и сознание, запечатленное на бумаге, – «кровь, не запечатанная в вены» («Вампиры позорной Челябы»; «Желтая запись»), – не может быть подлинным:
<...>
и сразу увижу того, кто извне
рисует меня на странице,
и он не позволит, наверное, мне
подумать, а не удивиться
<...>
(«Подружка Хлестаков». // «Желтая запись»)
Дихотомия слова и реальности, становясь главным принципом формирования поэтической структуры, проявляется в оппозиции пророчества и любви («Пророчь любовь, хотя не будешь прав…»: «И плавала Офелия»; «Черная запись»), крови-воды-жидкости-реальности и «стекла облаков»–льда–»твердой влаги», соотносимой уже с запечатленным, неподвижным, записанным словом:
Обтекая мой почерк, вокруг проступает бумага.
Совпадая с тобою, белеет твоя нагота
и твердеет как влага… нет, правда, твердеет, как влага.
(«Спины». // «Желтая запись»)
Этот же дуализм обусловливает саму форму «Книги стихов» Виталия Кальпиди, состоящей из двух отражений (как выразился в предисловии автор, «по схеме сиамских близнецов»), связанных с реальностью слабее, чем друг с другом. Возникает своеобразное зазеркалье, смыслы перекидываются из стихотворения в его двойник, смешиваются, искажаются, в прозрачности своего выражения-сказывания успешно скрывая свое содержание4.
В любом (вы)сказывании содержится больше, чем можно расшифровать. Но об этом «большем», которое есть (или его нет) в данном сказывании, мы рассуждать не можем. Нам дано судить лишь о технике представления истории. История же как таковая, то, что было рассказано, ее качество – то есть абсолютная (если такая вообще существует) ценность – и даже самое ее наличие (ее может и не быть – тогда текст становится лишь элементом игры, имеющей уже внетекстовой характер) принципиально не поддается анализу и определению.
[1] — …рассуждения, родственного, скорее, обсуждению, нежели суду.
[2] — Другое дело, что Кальпиди, мягко говоря, не первый, кто активно использует подобные способы высказывания. Тут возникает вопрос: насколько сильно, оригинально и вместе с тем органично выглядит его «речетворчество».
[3] — Отсылающее, впрочем, не столько к Шекспиру, сколько к рок-музыканту Егору Летову (тоже, кстати, уральцу) и его альбому «Сто лет одиночества» (там есть песня «Офелия», текст которой во многом – от общего настроения и сюжета до некоторых приемов построения поэтического текста – схож со стихотворением Кальпиди).
[4] — Представьте себе два зеркала, поставленные друг против друга.
31.08.2007
Сергей Шаулов
Знамя
№5, 2000