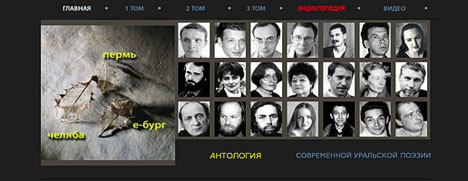Кальпиди
Aркадий Бурштейн «О падшем снеге и струнах памяти» в одном из стихотворений В. Кальпиди.
| * * *
Точно марку для конверта, снег лизнул изнанку неба и приклеил к ней травинку, а к травинке — без пальто человека в детских ботах, про которого не треба говорить, что он не виден. Потому что он — никто.
Тем не менее любовник, неудавшийся папашка, с желтым горлом никотина, в страшной азбуке зубов, он во сне танцует женщин: вот он кружит замарашку, или трогает другую, обходя углы углов.
Он висит на фоне птицы, птицы грязной, в голубином одеянье шелестящем, т.е. мухи, кабы не клюв, который шелушится — буду точным — не хитином. (Чем он станет шелушиться, если точным быть вполне?)
Если дьявол — падший ангел, не живой, а насекомый, если в теле гусеничном он, раздвоенный, ослеп — это значит, между прочим, я нашел пассаж искомый: снег уральский, если честно, — это просто падший хлеб.
А внизу сидит собака, тренируя сильный сфинктер. Секс сухой — вегетативный — видит спящая пчела. Человек висит на небе: те же боты, тот же свитер, те же маленькие губы нежно судорога свела.
Снег висит вокруг вороны и бессонницы синицы. Человек висит на небе и не может улететь. У него белки из ваты? У него зрачки из ситца? И наверно только брови не успели умереть?
Это папа мой несчастный и не мягкий, и не твердый. Он висит на белом небе не стеклянный, а пустой, сквозь него летают птицы, или снег ссыпает гордый, т.е. попросту соленый невесомый мусор свой.
Шаг за шагом, год за годом мы натянем, как резину, между нами расстоянье, выполняющее роль то струны, а то пространства странной тётки Мнемозины, без которой страх — не танец, а берёзовая боль. |
|
| Январь 1998 | |
Разбор текста
| Точно марку для конверта, снег лизнул изнанку неба
и приклеил к ней травинку, а к травинке — без пальто человека в детских ботах, про которого не треба говорить, что он не виден. Потому что он — никто. |
Снег лизнул изнанку неба. Что такое «изнанка неба»? Сторона, обращенная к нам, или от нас? Мы пока не можем ответить на этот вопрос. Мы знаем лишь то, что у неба есть ДВЕ стороны.
А теперь давайте взглянем внимательнее на окраску некоторых слов первого четверостишия: ЛИЗНУЛ, ТРАВИНКА, ДЕТСКИЕ БОТЫ — все это слова, окрашенные семой детскости, так сказать. Только-только проклюнувшаяся травинка, листок — как правило клейкие, липкие. Таким образом, слово «приклеил» тоже занимает свое место в «детском» ряду. Отметим еще два момента, которые, как мы увидим далее, важны для понимания текста: травинку лижет снег, висящий или над небом (если изнанка неба — сторона, обращенная вовне), либо под небом, в любом случае, высоко над нами. Снег — это холод, это чистота. Однако липкость, вызванная его действием, предполагает зародыш грязи: липкое — пачкает. Кстати, на окружение грязью указывает и слово БОТЫ. Итак, мы можем сказать, что похожий на ребенка человек, приклеенный к изнанке небес снегом, пришел из некоего места, где было легко запачкаться. Теперь, вися на небе, он — НИКТО, то есть либо
|
| Тем не менее любовник, неудавшийся папашка,
с желтым горлом никотина, в страшной азбуке зубов, он во сне танцует женщин: вот он кружит замарашку, или трогает другую, обходя углы углов |
Ах, как много грязи в этих строках. Запачканное никотином горло, две замарашки в танце, любовник, не сумевший стать отцом…
Человек в детских ботах проявляется во взрослой своей ипостаси. Он висит в страшной азбуке зубов и ему страшно, и от этого страха он сбегает в сон, не приносящий облегчения. |
| Он висит на фоне птицы, птицы грязной, в голубином
одеянье шелестящем, т.е. мухи, кабы не клюв, который шелушится — буду точным – не хитином. (Чем он станет шелушиться, если точным быть вполне?) |
Неважно, чей это сон: сон Висящего на небе, или сон поэта, автора стихотворения. Важно то, что в этом сне Висящий памяти не утратил, т.к. сна без памяти НЕ БЫВАЕТ. Но Боже мой, сколько в ней грязи, в этой памяти сна!
Насыщенность текста семой грязи увеличивается. Грязная птица, маскирующаяся под голубя или муху – вероятно, душа Висящего. Во всяком случае, фон постоянен, т. е. птица висит вместе с человеком. Неважно, чем шелушится ее клюв, важно, что — шелушится, т. е. порождает грязь. Что означает близость, схожесть с насекомым, далее мы увидим. |
| Если дьявол — падший ангел, не живой, а насекомый,
если в теле гусеничном он, раздвоенный, ослеп — это значит, между прочим, я нашел пассаж искомый: снег уральский, если честно, — это просто падший хлеб. |
Семантика насекомости у Кальпиди, вообще говоря, предмет специального исследования. Может быть, когда-нибудь я его и проведу. Много лет назад он писал: «кто запускает компьютерный робот шмеля в густую среду опыления?»
То есть насекомые в его мире действительно мертвы, не живы. Однако гораздо интереснее другой аспект строк, лежащих перед нами: аспект нечистой силы и связь ее с падением вниз, в мир грязи, откуда, как мы знаем, пришел Висящий. Дьявол — Нечистый — падший ангел, т. е. был чистым, когда был не падшим, был наверху. Упав, он вошел в тело гусеницы, живущей в грязи. Почему он раздвоен? Да потому, что, как я уже писал, насекомое для Кальпиди — не живое, а нечто механическое, а значит семантика ГУСЕНИЦЫ раздваивается: гусеница — это насекомое, но это и гусеницы механизма, трактора, например, а значит, их всегда по две, т. е. они раздвоены. А далее — еще интереснее, так как у нас на глазах раздваивается и образ снега: есть снег, который лизнул травинку, снег висящий, но есть и снег уральский, снег падший, а стало быть грязный, и в этом качестве не отличающийся от упавшего в грязь хлеба. Ангел, хлеб и снег, упав, превращаются в грязь. Далее мы поймем, что это означает в модели текста. |
| А внизу сидит собака, тренируя сильный сфинктер.
Секс сухой — вегетативный — видит спящая пчела. Человек висит на небе: те же боты, тот же свитер, те же маленькие губы нежно судорога свела. |
Итак, что происходит внизу?
Собака тренирует сфинктер, связь которого с нечистотами достаточно прозрачна. Пчела видит сон о сухом вегетативном сексе. Таким образом в стихотворении параллельно существуют два сновидца, причем тема обоих снов, в сущности, одна и та же. Сон, как и его тема, присущ миру нижнему, куда все падает. Сон — функция бренного тела. Я не люблю апеллировать к другим текстам при разборе, т. к. убежден, что все необходимое для понимания текста должно быть в нем самом, но в последнее время все чаще позволяю себе это: «…тело желает спать. А я желаю — пить» писал В. К. в книге «Мерцание». Но видят сны — или участвуют в них — мертвые. Только у пчелы вы не увидите нежно сведенных судорогой маленьких губ. |
| Снег висит вокруг вороны и бессонницы синицы.
Человек висит на небе и не может улететь. У него белки из ваты? У него зрачки из ситца? И наверно только брови не успели умереть? |
И вот, друзья мои, в тексте появляется бессонница, великолепной аллитерацией и синицей привязанная к небесной стихии. И — растворенная в небесной стихии, висящая там рядом с вороной и, нематериальная, равная ей — материальной, обе они равно окружены снегом, природа которого таким образом оказывается амбивалентной: снег — промежуточная субстанция, связывающая, соединяющая разные пласты и миры. Вспомним, друзья, что именно снег лизнул изнанку неба, т. е. изначально, в модели разбираемого текста, он, возможно, пребывал выше неба, ведь изнанка неба — то, что скрыто от глядящих на него, то, что обращено вовнутрь. И значит, если автор стихотворения смотрел на небо глазами смертного (я не утверждаю, что это так), для него изнанкой была неизбежно внешняя сторона, обращенная вовне. А снег висел над ней.
Но вернемся к разбираемой строфе. Итак, висит снег, обволакивая материальные тела и нематериальные субстанции, и наряду с ним, вровень с ним, висит Висящий. Он не может улететь, но НЕ МОЖЕТ И УПАСТЬ! Текст фиксирует изменения его природы, перерождение материи: у него белки из ваты (снега?), у него зрачки из ситца, и наверно только брови не успели умереть. Если мы вдумаемся в это, то поймем, что смерть, тождественная здесь перерождению материи, растянута во времени и наступает поэтапно. И это какая-то другая смерть, не та, с которой мы имеем дело на земле. И еще вот что, и это безумно интересно по-моему: вата, ситец — чисты по своей природе. Т. е. на фоне грязной птицы — души, клюв которой шелушится непонятно чем, части тела Висящего (с желтым горлом никотина, в страшной азбуке зубов…) превращаются в нечто иное, искусственное, мертвое, но — ЧИСТОЕ! |
| Это папа мой несчастный и не мягкий, и не твердый.
Он висит на белом небе не стеклянный, а пустой, сквозь него летают птицы, или снег ссыпает гордый, т.е. попросту соленый невесомый мусор свой. |
Я намеренно не останавливаюсь, не заостряю внимание на том, что В. Кальпиди пишет о смерти отца, т. к. по моему убеждению текст, вышедший из под пера поэта, не сводится к частной личной драме.
Да и содержанием моего разбора является нечто гораздо более широкое и универсальное: скрытые в недрах текста и определившие его своеобразие структуры вечного мифа. Итак, Висящий, лишенный материальных характеристик, висит, не падая и не улетая, на небе, сквозь него летают птицы, а снег ссыпает свой соленый и невесомый мусор. Внимание! Иными словами, вновь мы видим два вида снега: есть снег, но есть и МУСОР снега, т. е. грязный или ненужный снег. Он невесом, горд и солен. Его ссыпают и он падает, несмотря на то, что НЕВЕСОМ, т. е. падать не должен. В моей модели мусор снега падает вниз (мы уже видели его, не понимая, что это МУСОР снега. Помните СНЕГ УРАЛЬСКИЙ из четвертой строфы?), несмотря на невесомость, именно потому, что он — мусор, да еще и гордый к тому же (гордость привела к падению ангела и превращению его в дьявола). Потому что в стихотворении Кальпиди земля предстает как гигантская свалка грязи, место, притягивающее грязь. А небо оказывается гигантским фильтром, эту грязь отсеивающим и сбрасывающим вниз. Именно поэтому движение в тексте, по-моему, всегда движение вниз. Именно поэтому не может улететь Висящий, он не очистился полностью и вынужден висеть в Чистилище, мастерски увиденном и показанном нам поэтом. А мусор снега не только гордый, но и соленый, так как кроме всего прочего, кроме того, что вкус снега действительно отдает солью, перед нами еще и метафора слезы, вытекшая из слова НЕСЧАСТНЫЙ первой строки строфы и слова БОЛЬ последней строки строфы последующей. И это один из секретов мастерства Виталия Кальпиди, один из его приемов, которыми он виртуозно пользуется и всегда застает меня врасплох, хотя мне знакома эта его манера, и я всегда пытаюсь предвидеть момент, когда прием будет использован — и никогда не угадываю. Прием этот — внедрение в мощную космогонию крохотной человеческой слезинки — либо намека на нее. И я не знаю почему и как, но эта подмешанная вдруг незаметная слеза всегда взрывает текст и наполняет его таким напряжением и болью, каким только Кальпиди умеет наполнить свои стихи. |
| Шаг за шагом, год за годом мы натянем, как резину,
между нами расстоянье, выполняющее роль то струны, а то пространства странной тётки Мнемозины, без которой страх — не танец, а берёзовая боль. |
Именно здесь, в последней строфе стихотворения, и боль, и напряжение вырываются наружу, сметая все со своего пути.
Пространство Мнемозины – это, конечно, память, натянутая Кальпиди как струна, в которую свиваются обычные земные расстояние и время. Память – то, что связывает автора стихотворения с Висящим в чистилище, память, отсутствие которой превращает мир в райский сад и… превращением уничтожает тот мир, которому принадлежим мы с вами, мои друзья. Человек в мире до грехопадения не выделяет себя из природы, а значит, смертные его муки тождественны смерти березы, мучению травы… Подробнее об этом, а также о том, почему без памяти (без вибрирующей струны-пространства Мнемозины) страх — не танец (вспомним, что Висящий в СТРАШНОЙ азбуке зубов — во сне ТАНЦУЕТ женщин), а березовая боль, я писал в статье, посвященной разбору стихотворения «Летний вечер» из книги Виталия Кальпиди «Ресницы». К этой статье я и отсылаю читателя. В заключение я предлагаю вам, друзья мои, теперь, понимая суть пространства текста и функции его разных компонентов, взглянуть на все образы стихотворения еще раз и насладиться тем, как они выстраиваются в стройную и четкую картину. Я оставляю вам удовольствие проделать это самим, без моей помощи, которую, впрочем, вы уже получили. |
| Цоран,
февраль-апрель 1998 г |