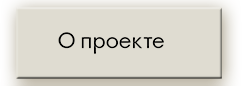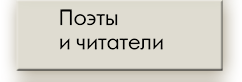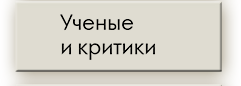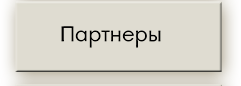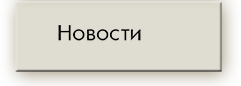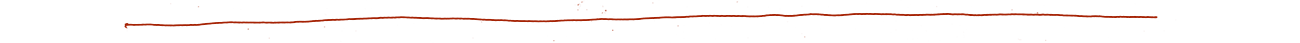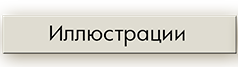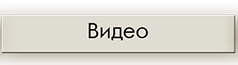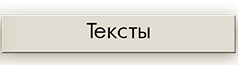Сергей Соловьев, поэт, прозаик, переводчик. Живет в Германии, Индии. http://www.litkarta.ru/russia/moscow/persons/soloviev-s
ГЛАВА № 77
Есть один реальный способ увидеть будущее – опередить его. С другой стороны, у нас самих нет будущего. Будущее есть только у нашего прошлого.
Четыре часа
Четыре часа она стоит недвижно
над съеденным ею человеком,
глядя невидящими глазами
чуть поверх его обглоданного лица.
Это впервые с ней.
Может, он как-то сидел на корточках
и движения не выдавали его,
да и ветер был боковой,
она не понимает, как это произошло,
слишком быстро, 5–7 метров в секунду.
Стоит в этом трансе четвёртый час,
что-то случилось в ней необратимое
и со всем её миром, и с этим уже не справиться.
Мутные жёлтые глаза, приоткрытая пасть
с подсыхающей кровью на шерсти.
Не слизывает. Жухлая полосатая шкура
дышит. Бабочка кружит над его лицом,
села, пьёт. Не видит, смотрит вдаль:
поляна, склон холма, город вдали, солнце
зашло за облако. Тигрица Т-6,
так она значится у егерей.
Камера слежения, притороченная к дереву,
снимает её беспрерывно все четыре часа,
сенсорный радиус, так совпало.
Отведи взгляд, вытри.
Внимательная открытость, но
центры её рассредоточены.
Полоснул рассвет, и зарезал ночь.
Зрение, отходящее, как наркоз.
Петушок взъерошен, играя знамя.
Хвостик ящерицы, отброшенный,
как суфий в танце.
Выбор болен.
Ветка –
дрогнула в будущем
и опустела.
И руки горькими стали.
Не смерть страшна, а вот эти
локти со всех сторон и запах.
Вытри, переведи.
Вернись. В ту минуту,
когда солнце зашло за облако,
он сидит у подножья холма,
в крохотном храме Дурги,
той, что верхом на тигре,
вот она – в алтаре,
в плюмаже и мишуре.
Он сидит на полу,
напротив священника,
сказав ему: помолчим.
Где ж она ходит, эта Т-6?
Ходит, водит его, второй месяц.
Вчера, говорят, там была, где он её не дождался:
вышла, смотрела на стреноженных буйволов –
всю ночь просто сидела, смотрела,
привстанет, готовясь к прыжку,
и снова садится. А на заре
подошла к куроферме,
трясла железную сетку,
бросила, обернулась на сторожа у костра,
ушла, опустив голову.
Одет в безоружную тихую смелость.
Легла, как тьма.
Светло тебе?
И слушал движение слов,
как глухонемой,
прикладывающий ладонь к роялю
или горлу собеседника.
А ты говоришь, почему отнимается –
река у теченья, взгляд у зрения,
голос у губ. Отслаивается от сетчатки,
разбирается космос, как ёлка.
Всё меньше остаётся
того, что можно разделить с людьми.
Подуть в глаза, как в раны, и отпустить.
Ты только рамка
того, что пишется в проёме.
Не во плоти,
но эйдосы с детьми
могли бы, как эстонцы, молчаливо…
Нами живут и мёртвые.
Светло?
Как странно, он думает, как всё же странно:
когда две трети жизни пройдено,
сказать впервые:
я люблю тебя.
Кому? Женщине, которую видит впервые
невидящим взглядом,
и не понимает, что происходит с ним,
с миром, и так по-детски
не выпускает её ладонь из своей,
и тонет во тьме её волос,
трогая её губы как невозможное.
Может быть, и не женщине даже,
не той, у которой двое взрослых,
не самовлюблённой и одинокой,
не блуждающей по свету,
не матери и трижды чьей-то жене,
а девочке с едва проступившей грудью
и нестриженными с детства волосами,
которые метёт и плетёт ветер,
перекидывая с её лица на его.
И не девочке, и не той,
с которой сошлись в сети,
не той, что на снимках,
но смутно похожей,
не с той речью,
что в окошке чата,
но с теми же паузами посреди фразы
и не там, где ждёшь,
не той, не там, но уже с билетами –
завтра на самолёт. Вместе.
Туда, куда ему нет пути,
где всё для него сбылось уже,
а для неё – впервые.
Мир лежит,
после близости весь отвёрнутый.
Ах любовь моя, каракатица,
всё огнями переливаешься,
град мой светлый…
Повела, где сама за пределом белого.
И такой разор нестерпимой близости, что сама растеряна.
А потом: сотри, говорит, черты свои случайные,
сотвори чаянья.
На рассвете, говорят, жизнь – кровь с молоком,
а хлебнёшь – молоко с кровью. И пританцовывают.
Как любовь.
И наверчивают полумесяц,
как галушку в сметане.
И вот они прилетают, садятся в машину и слепнут.
Туман, такой небывалый, змеится
сквозь щель в окне, заволакивает.
Шофёр, наверно, поглядывает
в зеркальце, но не увидеть их
на заднем сидении:
она склонилась к его бёдрам,
брюки на нём приспущены:
то, что перед её лицом,
чуть вздрагивая от легких её касаний,
четыре часа уже –
непрерывных четыре –
стоит, как в ступоре,
в отличие от него,
безвольно полулежащего.
Не понимают, как это может быть,
ни он, ни она. И туман –
ни страны, ни земли. Как после смерти
или до жизни. Чуть вздрагивая
и не изливаясь. Как будто
это уже случилось:
вся эта вязкая заволочь за окном,
как сперма. Как саван. Ещё?
Как вниз головою – в плаценте.
Машину кидает в ухабы, сигналят,
и нимбы в тумане плывут,
уворачиваясь от столкновений,
она отшатывается, поперхнувшись.
Может быть, он и не ляжет уже никогда,
представь, – говорит. Да, – выдыхает она, –
там. Тайга у неё – там, где юность,
штормовка геолога на неразбуженной женщине,
потом психология, кафедра, и на краю –
сотворение кукол как ремесло
и укромная страсть, и блужданье по свету,
и дети меж тем, и мужья,
и неразбуженность, девочка
за хитиновой оболочкой.
Как же это случилось,
ни в жизни, ни в слове не встретиться им,
а вот так – в стороне, за чертой,
с этим белым мешком,
их поглотившим,
откуда доносится еле слышное:
я люблю тебя…
Вытри.
Свет стоит среди дней сереньким колом.
Жизнь темнеет, как живопись.
Камень в Петра играет – один в раю.
Сложились мы, как крылья.
Остаются слова,
рано так повзрослевшие,
как без матери детки.
Если ты такой герой, она говорит ему,
иди сам, без «мы», которого нет в тебе,
иди, ищи её, эту Т-6, или как её там,
говорит, пятясь от его попыток приблизиться,
и в глазах её – тёмные плошки слёз.
И да, говорит, я боюсь и не понимаю, зачем,
зачем это так непреодолимо надо тебе,
непре… И смолкает, уткнувшись в его плечо.
Здесь что-то быть должно за краем…
Тихонечко смеются раны,
и бабочка лакает кровь с ладони.
Не обольщайся, в памяти нет сердца.
Как во рту ребёнка тает
эта талая вода.
Дар слова – бог утрат.
Здесь что-то быть должно за краем
любовью отнятого «я».
Воздух прильнёт к лицу
и отпрянёт, как обознавшись.
Четыре часа он лежит, и камера непрерывно снимает
его, не меня, который невидим, но всё ещё здесь,
над этим обглоданным телом,
может быть, лесоруба, из адиваси –
как проходит по ведомости,
5 тысяч – за корову, 10 – за человека,
такова компенсация. Может быть,
он и был мной. Теперь, четыре часа спустя,
я не чувствую с ним такой уж связи,
сознание, как догадывались древние,
вне нас… И камера выключилась бы уже,
если б не эта, над ним стоящая,
с невидящими глазами
в сенсорном радиусе.
Опыт прочтения
О Главе № 77 написано во втором томе «Русская поэтическая речь-2016. Аналитика: тестирование вслепую»: 80, 176, 204, 205, 206, 210, 255, 349, 352, 356, 414, 544, 598, 611.
Отдельных отзывов нет.
Вы можете написать свою рецензию (мнение, рассуждения, впечатления и т.п.) по стихотворениям этой главы и отправить текст на urma@bk.ru с пометкой «Опыт прочтения».