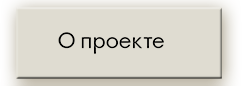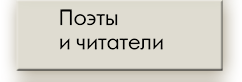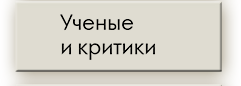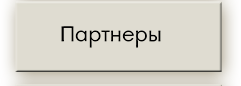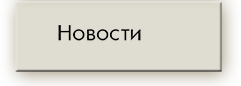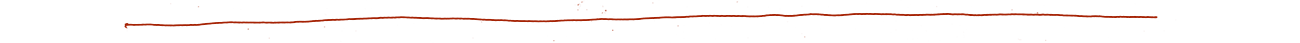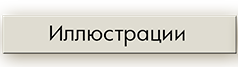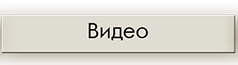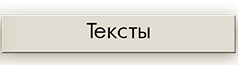Елена Михайлик, поэт, филолог. 1 книга. Живет в Сиднее, Австралия.
http://www.litkarta.ru/world/australia/persons/mikhailik-e/
ГЛАВА № 91
Если всё в твоей жизни начинает обретать смысл, значит, ты умираешь.
* * *
Пространство замёрзло насмерть, часы пропустили ход,
Едет профессор Фасмер через двадцатый год
По пересохшим рекам, крошащимся облакам,
Поезд с библиотекой – в качестве рюкзака.
Насмешливо, двухголово от степей до Уральских гор
Происхожденье слова глядит на него в упор.
Время ходит опасно, не шевеля травой,
Словно профессор Фасмер через сороковой,
В небе и в море тесно, огонь затворил пути,
Беззащитные тексты некуда увезти.
Память, непрочный панцирь, сохраняет весь оборот
Там, где не сыщут рейхсканцлер, обыватель и артналёт.
Ударенья считая, слоями глин и руин
Привычно слова глотает полабский город Берлин.
Пригороды, полустанки ворочаются впотьмах,
Что там в сухом остатке и в четырёх томах?
Родственник бабочки – перепел, недвижно-стремительная река,
Многослойный пепел носителей языка,
Ветер над польским лесом, белые острова
И, конечно, профессор, – слова.
* * *
Верховой пожар подземному говорит:
Это как оно всё у тебя извнутри горит,
Без практически воздуха, дыма, Крыма и Рима,
От твоих траекторий по топливным закромам
Лобачевский икнёт и выскользнет из ума,
Промахнувшись мимо Казани непоправимо.
Под землёй не слыхали, что такое Казань,
Под землёй считают на пласт, а не на гортань,
Десять метров культурного слоя не вызовут интереса.
И наличие разума на склонах горящих гор –
Не причина останавливать атанор
Посреди процесса.
Это варят кашу на послезавтра на
Безымянные, но непременные времена,
Но пока над рекой, не ставшей калёным паром,
Верховому деревья вымётывают вдогон
Семена, что земле откроет только огонь,
Горький мусор, что можно расчистить только пожаром.
Это бедствие встроено, врезано в генотип,
До потопа, до сотворения птиц и рыб,
До весны, до луны, до строки, до смертного часа,
А верховный пожарный, застыв на платформе R,
Всё глядит и глядит на тот верховой пожар,
Что давно исчислен – но перепрыгнул трассу.
* * *
Досточки, пергамент, бумага, что ты ни делай,
как там ни надписывай, не меняется существо:
почта из Британии идёт четыре недели,
почта из Китая – вдвое больше того.
Тут не расстояния помехой – или подмогой,
не война с погодой, что вечно навеселе, –
почта из Британии идёт по римским дорогам,
почта из Китая идёт по чужой земле.
Ходит над Гирканией ветер, большой, красивый,
по цветным султанам и жёстким гривам коней –
цезарю Траяну, похоже, вполне по силам
почту из Китая ускорить на пару дней.
Два тысячелетия пожара, оспы и селя,
цифры гнутся в трубочки, но снова можно считать:
почта из Британии (видимо, константа) идёт четыре недели,
почта из Китая – пока доходит за пять.
Войско на равнине, ветер в небе, обернись, здравствуй,
шестерни и камни не те, и звёзды не те,
но узнать несложно – по стремленью сжимать пространство
палочкой по глине, лазером в темноте.
* * *
Не сказать, чтоб в обиде,
но в большой тесноте уже несколько тысяч лет
проживает в разобранном виде
гражданин по фамилии Когелет.
Весь в клочках цитат, прерван на полуслове,
он выходит в сад,
лев с ягнёнком лежат в безвредном болиголове,
облака горят,
в дальних сферах большой оборот совершают числа,
плавя звёздное вещество…
вот чего во Вселенной не прибыло – это смысла,
хоть на Млечном Пути, хоть на Вишере, хоть на Висле,
для людей не меняется ничего.
Но когда в небесах опять готовят крайние меры,
моровую язву, водородный диспаритет,
Он встаёт в собрании и говорит: очнитесь, товарищи офицеры,
всё суета сует.
И они замолкают, каждый неосязаем,
каждый светел, каждый – воплощённое волшебство –
уступают –
потому что любовь лежит и не исчезает,
как печать на сердце его.
* * *
Нет, не эпос, не сказка – сноска, осколок, прядь,
Рыба слушает новости, морщится и уходит на глубину
Неспокойное время – пора учиться стрелять
По примеру достойных господ хунну,
Что в спокойное время покоя не тратят зря,
А плодят стада, и ласкают жён, и глотают лунное молоко,
А в немирное – стреляют, дурного слова не говоря,
И полмира подмяли уже под своего царя,
Потому что где же кто видал на земле покой?
Как-то шишел он весь, и мышел, и вышел весь,
Да и, кажется, исходно стоял не здесь,
Птицы смотрят в экран, как в морок сторожевой,
И туман по утрам справляется: кто живой?
А не самые умные в нашем живом роду
Собирают грибы, запасают закуски к медленному вину,
Потому что осень уж очень прозрачна в пропавшем этом году,
В старой книге песен, где рыба клюёт луну,
Где туман ползёт от реки, созвучьями шевеля,
И историк из-под строки глядит на поля, поля…
* * *
там, где повествователь теряет дорогу в утренних островах,
там, где яблоки по-прежнему не умеют рифмоваться со вкусом хлеба,
она держит ставку свою на семи холмах, на восьми словах,
она держит небо;
от рожденья ей не дано зажигать дневные огни,
сочинять планеты, плодить музыку и войну, отпускать уставших,
но случилось так, что они тут с мужем и сестрицей теперь одни –
никого из старших;
между миром и мором на три пальца дыханья – огонь, вода,
липкая кровь земли, кормящая обороты,
и сестра простирает крыла на все города,
пароходы, паровозы и самолёты;
энтропия любую жизнь, любой механизм обращает вспять,
счёт все время идёт на минуты и километры,
её муж говорит: прорвёмся, и они проходят опять –
в бейдевинд к мировому ветру;
ну а что она, что может она – свари, принеси, налей –
северное сияние, каждую долю рассвета в любом океане,
цвет февральской воды и свет июльских полей,
ласточку за окном, монетку за подкладкой в пустом кармане;
открывая окно в начале мая, вдыхая шальную взвесь,
на работу – вплавь, а из кубка льёт, дымной радугой разгораясь,
то, что держит наши молекулы рядом, что позволяет нам
просыпаться здесь –
только радость.
* * *
Извините, он говорит, у меня темно,
Там, снаружи, гудит большое веретено,
Оно тянет свет, дрожа, теребя, дробя,
И наматывает, наматывает на себя.
И теперь среди родных и дальних планет
И порядка нет, и даже хаоса нет,
Потому что, представьте, и для хаоса нужен свет…
И для хаоса нужен смысл, начало, число,
То, что падает вниз, вырабатывая тепло.
А у нас – такое несчастье – плывёт, гудит,
За окном на меня глядит, без окна – глядит.
Свет слоится, льётся, мерцает, словно слюда, –
Звёзды, улицы, лица, встречные поезда,
Все мои слова, гудя, уходят к нему, туда…
Я его понимаю – что я ему скажу?
Постою под окном, фотонами пожужжу,
Может, варежки или шарфик ему свяжу.
* * *
Это перо не приравнять к штыку,
Это перо не похоже на финский нож,
Это перо напоминает – перо,
Обыкновенный птичий маховый лист,
Осенью, снимаясь туда, в тепло,
Опустошая небо, трубы, сады,
Птицы роняют то, с чем им тяжело.
Просто бросают вниз, не глядят – куда.
Птицы уже не помнят давно, кто такой Гомер,
Дарвин и Мендель, Монсанто, Уотсон и Крик,
сами собой летят по магнитным полям,
выпуклым, вогнутым линиям над землёй,
сами собой произносят своё «курлы»
на сверхкоротких частотах, как и тогда,
как и всегда, окликают: на юг, на юг,
ну а потом внизу наступает юг,
серные реки, пески и солончаки,
сладкий подземный металл, что плодит металл.
Всё, как привычно нам, как привычно им.
Так что перо беспокоит только слегка –
вот оно, торчит сквозь кожу и кость,
переливается радугой, не течёт.
Разве что шепчет ночью: на юг, на юг.
Опыт прочтения
О Главе № 91 написано во втором томе «Русская поэтическая речь-2016. Аналитика: тестирование вслепую»: 20, 80, 128, 202, 206, 208, 219–220, 252, 271, 353, 354,
356, 358, 415, 432, 461, 551, 589, 642.
Отзыв №1
Марта Гудова, студентка УрФУ, Екатеринбург
«Это перо не приравнять к штыку…»
Данное произведение можно назвать своеобразной одой птичьему перу, в которой автор не занимается подбором пафосных сравнений.
«Это перо напоминает – перо,
Обыкновенный птичий маховый лист…»
Поначалу перо словно бы и не обладает внутренней жизнью.
«Это лишь Птицы роняют то, с чем им тяжело.
Просто бросают вниз… »
Оно является лишь обузой, от которой случайно и без сожаления освобождаются его первоначальные хозяева, после этого в руках человека перо становится инструментом, с помощью которого можно записать и передать информацию потомкам. Используемое для такой цели, перо имеет ценность для людей, но птицам нет дела до этой второй жизни некогда сброшенного ими балласта.
«Птицы уже не помнят давно, кто такой Гомер,
Дарвин и Мендель, Монсанто, Уотсон и Крик,
сами собой летят по магнитным полям… »
В этих строках чувствуется некоторое противопоставление: с одной стороны перо, которое может записать жизнь, рассказать о ней даже после ее завершения, а с другой — птицы, у которых свой вектор существования, и которых вовсе не беспокоят те самые жизни, которые записывались, записываются и будут записываться при помощи перьев, которые они обронили.
В заключительных строках стихотворения все же упоминается связь перьев с их первоначальными обладателями, и здесь же они приобретают одушевленность.
«Так что перо беспокоит только слегка –
вот оно, торчит сквозь кожу и кость,
переливается радугой, не течёт.
Разве что шепчет ночью: на юг, на юг.»
Оставленные (или потерянные?) в человеческой реальности, перья словно бы тоскуют по свободе, которую потеряли. Складывается впечатление, что попав в человеческие руки, перья попали в плен.
—————————————
Вы можете написать свою рецензию (мнение, рассуждения, впечатления и т.п.) по стихотворениям этой главы и отправить текст на urma@bk.ru с пометкой «Опыт прочтения».