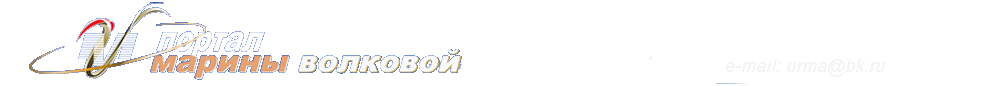Фрагменты текста «От автора» (из книги «Ресницы», 1997)
«Я сначала хотел высокомерно умолчать о том, как и для чего делалась эта книга. Но не вышло. Почему? Богмой, кто бы знал, как мне хочется ответить: «По кочану!» Мысль — сварганить книгу стихов по схеме «сиамских близнецов», по счастью, не очень оригинальна. Ну, подумаешь, есть текст и есть его вариация. Или, например, так: есть два черновика, высоколобо намекающие на существование- первотекста. Что тут особенного? Действительно, ничего. Тем не менее я пошёл на это, хотя и без видимой целесообразности. Именно отсутствие таковой оставляло мне надежду, что подобная затея перестанет казаться штукарством еще в начале или, по крайней мере, хотя бы в конце.
Техника написания была проста. Записывался текст, а потом по очень и не очень горячим следам делалась перезапись. Так я и называл стихи в процессе работы: «запись» и «перезапись». Называл, кстати, честно, но неточно. Поэтому, чтобы не подзуживать читателя к размышлениям о первопричине, за которыми нет никакого реального пространства, я при создании «жёсткой копии» книги ограничился названиями «жёлтой» и «чёрной» записей. (И они если чему-то соответствуют, то только цвету бумаги, выбранной для более эффектной подачи иллюстраций.) По этой же причине данное предуведомление вы сможете прочесть как в «чёрной», так и в «жёлтой» книге.
Я знал, что творческая безответственность — высшая фаза независимости. Знал я и то, что ирония, притворяясь всезнайством, на самом деле — всего лишь обморок, куда постоянно падает стесняющаяся сама себя сентиментальность. Знал, что иронические мысли воняют. (И поэтому мне часто приходилось думать в сторону.) Знал, что с точки зрения, допустим, дерева наше пользование интеллектом выглядит не эффектнее, чем безусловный рефлекс павловской собаки. Отсюда позвольте мне сделать вывод (который, конечно же, ну никак не напрашивается из вышесказанного), что оригинальность мышления — черта кутюрье, а не поэта. Поэт сентиментален. Он вынужден «пускать слюни»: ими он обволакивает и переваривает «жертв» своего зрения, переваривает без поглощения. Энергия, выделяемая при этом, никому не вредит, никому не нужна и, стало быть, невинна. Невинность — это не состояние невиновности. Невинность — всего лишь примитивная техника безопасности, необходимая при общении с миром.
Если человек не может быть искренним, он пытается быть честным, если и с этим возникают трудности, то ему ничего не остаётся, как стать правдивым. А правда, доведённая до кипения энтузиазмом её последователей, испаряет только ложь. Вы догадываетесь, куда я клоню?.. А я вот — нет. Тем не менее продолжу: очень интересно жить (понимаете?) и писать тоже. Всё проходит, но ничто не может миновать. Это завораживает. Книга «Запахи стыда» примитивна как восклицательный знак на первомайском транспаранте. Она ясна по замыслу, потому что его не было. Она не продуцировала новые смыслы, так как не занималась их поисками. Смыслы вещей — это всего лишь запахи гниения Бытия. И хотя, к примеру, у розы они вкусны, но что это меняет, кроме самой розы?»
«Термины появляются, когда неясна суть наблюдаемого явления. Книга «Запахи стыда» не более, чем термин автобиографии. Тут мне удалось обойтись без заморочек судьбы и её масштабов. Книга предельно сужена и тематически, и лексически. Её образный строй не превышает количества предметов в какой-нибудь недорогой витрине. Узость речи позволяет быстро, почти с места, набирать предельную скорость повествования. Стиль возникает в моменты торможения. Он и возникает только, чтобы попытаться убедить богвестького, что текст существует на самом деле. Бесполезное занятие. Всё равно никто не поверит. И тут необходима реплика в сторону «сиамской схемы»: невозникший дважды убедительнее рожденного единожды. Вы понимаете, о чём я?»
«Что с того, что мне кажется, что поэт строит искусственные декорации стихов, чтобы те изображали некий жизненный опыт, который сам поэт так и не научился выделять из реальности? Что с того, что он делает это почти на грани шарлатанства? Нужен ли хоть кому-нибудь объективный ответ на этот вопрос? Наверное, нужен, несмотря на то, что объективность — всего лишь оболочка неполноты ощущений. Впрочем, мне не хотелось бы присутствовать там, где этот ответ будет дан».
(http://modernpoetry.ru/main/vitaliy-kalpidi-zapahi-styda)
* * *
Время переводить современных польских поэтов,
но языка не знаю, подстрочников нет, информации — тоже.
Жизнь в конечном итоге сведена к данному июльскому лету,
а личная старость — к шелушащейся коже.
Все определения крутятся возле «солёный» и «жидкий».
Процесс написания текстов управляем, отсюда — ничтожен.
Седина напоминает обычные белые короткие нитки,
и это, скорей, забавляет теперь, чем тревожит.
«Капитанская дочка», «Обломов», «Доктор Живаго»
наводят на долгую мысль, что писание русских романов —
вещь таки чистоплотная и справедливая, а проблема Бога живаго
в исполнении Толстоевского — занятье для меломанов.
В последнее время вокруг чересчур суетятся евреи,
опять пытаясь выдать свою биографию за судьбу страны,
которая их не любит (и это обидно), однако — греет,
пока они заняты тем, что сами себе равны.
Вороны часто падают с неба на землю, и почти никогда — обратно.
Слева — восход, справа — закат, посредине — полдень.
Любовь ко всему — в наличие, а просто любовь отсутствует многократно,
поэтому часто наступает <нельзя напечатать> полный…
Многие захотели не просто денег, а денег много,
даже нищие, что особенно не умиляет, но восхищает…
Путь — это желание двигаться. Желанье прийти — это дорога
(первый по-прежнему невероятен, а вторая — прельщает).
Очень много красивых женщин среди двадцатилетних,
тридцатилетних и сорокалетних.
С каждой из них неплохо бы съездить, к примеру, ну скажем, в Умань…
Главная особенность дождей, особенно летних,
в том, что я на данный момент никак её не могу придумать…
Если ты видел, как на ресницах и сильных бровях улетают жёны,
не на юга, но клином и с монотонной песней…
Впрочем, оставим данной пассаж незавершённым,
чтобы неинтересное стало чуточку интересней.
Стрекоза напоминает, что когда-то не было стрекозы,
и ценность этого в том, что не требуется никаких тому объяснений,
в отличьи от утверждения, что тютчевские стихи на счёт любимой грозы —
жеманные, велеречивые и лживые без стеснений.
Я не имею притензий ко всем, кто не имеет претензий ко всем.
А к тем, кто имеет претензии, я тоже их не имею.
Конец ХХ века, 7 июля, 7
утра, и я замолкаю, потому что немею…
Однако юзом дописывается строфа,
теперь уж последняя (и это точно)…
До-ре-ми-фа…
соль отсутствует, значит музыка опреснена (читай — водосточна).
(книга «Ресницы», 1997 http://modernpoetry.ru/main/vitaliy-kalpidi-resnicy#vremiaperevodit )
Хакер
и стало видно во все стороны света…
Н.В. Гоголь
…на этом и поставим точку? Да!
Но я еще не выдумал — куда.
Бумага, запустившая мотор
лукавой белизны, под монитор
косит и косит, и косу не точит,
надев вуальку виртуальных точек.
На входе в эту Сеть ввести пароль
мне помогает каменная соль,
пока вспотевший ею Командор,
схвативши Дон Гуана за упор
причинности (а вовсе не за руку),
на порно-сайт волочит эту суку.
«Всё станет всюду видно…» — вроде так
нам предсказал почётный вурдалак,
почти всегда вбивавший по утрам
себя на пару с моголем в стакан,
готовя фразу для артиллериста:
«Мол, всё смешалось и довольно быстро».
Когда ж ты трахнешь, нежная, меня,
хрустальной маткой весело звеня,
что пробует омонимом пчелы
из непристойности, которую не мы
придумали, сбежать в июньский улей,
где трутни ей на верность присягнули?
Вопрос не праздный. Праздный не вопрос,
а сжатый архиватором засос
в реальном времени, пока его режим
реален там, где мы с тобой лежим,
где мы лежим, приобретая гордость
за то, что потеряли нашу твёрдость
и скоро станем жидкими. Дружок,
быстрей побрей скучающий лобок,
пока не превратился навсегда
он в термин «волосатая вода»,
тем более за этот шахер-махер
сам на себя пошлёт нас парикмахер.
Ты ясно мыслишь. Я ж склоняю речь
к попытке этой пыткой пренебречь,
ключами разводного языка
закручивая гайки языка,
чтоб осушить его гнилое русло
для зренья, становящегося устным.
Что характерно, и в девятый раз
был полосатым под тобой матрас,
а значит, принтер надо поменять
и перейти на струйную печать,
которую поддерживает сперма,
что, согласимся, тоже характерно.
О, вероятно, впрочем, почему
брюссельским был ответ — по кочану,
скорей всего, по-видимому, так
свистит во вторник четверговый рак,
но разрази нас гром, когда мы, разом
давясь анекдотичностью оргазма,
на нём и остановимся, а не
проникнем дальше, где на тишине,
как на подушках, восседает то,
которое Никто назвал Ничто,
укрытое щитами наслажденья
от вкуса, осязания и зренья.
В итоге отменяется итог.
Допустим, я зайду за тот порог
и как бы не замечу, что зашел,
пока не раздавлю ногою пол
мужской и не успею удивиться,
как он скрипит на женской половице,
что маловероятно. Я не вдруг
руками, то есть призраками рук
(покудова сухими, коли пот
не может сразу, сделав оборот,
стать малосольным оборотнем пота)
схвачусь за нечто, раздвигая что-то.
И сразу станет видно всё кругом,
когда я пальцы брошу босиком —
по непонятно как возникшей тут
клавиатуре — на последний спурт,
пытаясь треск сухой клавиатуры
озвучить дефлорацией скульптуры
с веслом для женской гребли, чтобы взлом
уж точно мною был произведён,
и пусть его похабная черта,
которая не значит ни черта,
бесстыдную рифмовку не штрихует,
зато от неудачи застрахует.
Теперь о главном: главным стало всё!
И подсказало мне моё чутьё:
пересоли последний свой засос
и обойди защиту через DOS
dosтупных поцелуев, чтобы сразу
не завершить, а кончить… эту фразу.
Теперь о страшном — страху не бывать!
Я вижу всё: моя всплывает мать,
за ней отец, подводный свиристель,
летит на общежитскую постель,
где я схватился за кусок резины
проглоченной мамашей пуповины.
По этому каналу я готов
скачать себе на диски позвонков
древнейший минерал «««порисмертилл»»»,
который я в тройные поместил
кавычки. И пока стоят кавычки,
меня не вскроешь никакой отмычкой.
Отсюда смерть — невероятна. Но
в трусах семейных жизнь летит в окно,
она прекрасна, потому что к ней
отец прижат на силикатный клей,
и у него, наверное, для вида
в руке воздушный шарик суицида.
О, вижу я, как мой уральский <К>рай,
откручивает букву <К>, но <.>рай
никак не получается, т.к.
<К> остаётся с нами на века
расплатой материнской, то есть платой
внутри периферии вороватой.
Торчат разъёмы троицы святой
в моей спине. Я очень молодой,
поэтому не верю, что торчит
гарпун в лопатках и кровоточит,
но ангелы летят лизать лопатки,
и горько мне, что ангелам не сладко.
Я вижу всё, что будет завтра мной:
мою страну, деревья над страной,
какой-то мусор, сваленный в углу,
мужицкую разбитую скулу,
заклеенную синей изолентой,
внезапную кончину президента,
и мордку Пушкина, приподнятую так,
чтоб наш поэт бесёнком, как дурак,
бежал до самой сказки о Попе,
которому работник по балде
ударил за пристрастье к дешевизне,
чей призрак бродит по моей отчизне.
Я вижу снег, который видел Дант,
и псковский малочисленный десант,
и грязный командира камуфляж,
и крик его из рукопашной: «Ляжь!»,
когда врубился он в разбитых кедах
в пятерку черножопых моджахедов.
А чуть левее — я тебя люблю,
пока солдаты движутся к нулю
присутствия на этом свете, и
уже гребут по собственной крови
туда, где я кончаю то и дело,
когда они в моё втекают тело.
Я плюну через правое плечо,
поскольку справа будет горячо,
поскольку лёд во рту, а не слюна,
поскольку траектория дана
плевку — лететь над правою ключицей
и, закипев, в полёте испариться.
Капитулирует с земли за облака
любой наёмник мудрости, пока
его позорный белоснежный флаг
с пятном ума величиной с пятак
толпа приобретает за бесценок
как знак, что рай предпочитает целок.
Земля, траву губищами зажав,
в ответ на это мышцами ужа в
траве изобразила подо мной
свою улыбку суженной кривой.
Была она на вид ужасно липкой
моей земли шуршащая улыбка.
Переизбыток памяти земной
систему провоцирует на сбой.
В оперативный перископ крота
за этим наблюдает темнота
и зависает, скинув на дискеты
оригиналы русского рассвета.
Любимая, которая моя
была в начале фразы февраля
и ею пребывала до конца,
пока слова дымились у лица,
в итоге и застыла в этой фразе
фигурой речи на уральском мразе.
Фигура речи — это хорошо,
когда ты гланд и нёба не лишён,
когда ты можешь и почти привык
любую жизнь упрятать под язык,
так верба будет дважды натуральной,
имея клон, склоняемый вербально.
Да будет то, чего не будет, да!
Я заливаю зрение в крота,
в пазы, где зашифрованный Гомер
лежит, не напрягая глазомер,
и, баритоном связывая связки,
ласкает слух по кромке и по фаске.
Мир увеличен мной до той черты,
где нагота доспехи наготы
с себя снимает с грохотом. И мир,
протёртый до своих волшебных дыр,
на них играет, будто на свирели,
как будто он живой на самом деле.
Как я хотел увидеть, но не смог
последние мои двенадцать строк,
где отхлебнул меня вечерний чай,
где веки мной моргнули невзначай,
где фразой «Verba volant, skripta manent»
простую вербу Воланд в скрипку манит.
(Из книги «Хакер», 2001, http://modernpoetry.ru/main/vitaliy-kalpidi-haker#6)
Продолжение на следующей странице